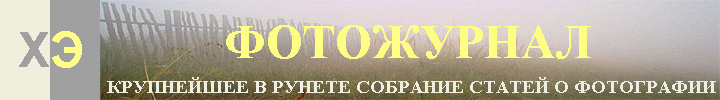МЁРТВАЯ НАТУРА
1. Обозначение темы
2. Куча предметов
3. Опыт
4. Воплощение идеи
5. Белый свет
6. Пустяки
7. Окончание
1. Обозначение темы.
Натюрморт один из самых древних жанров в изобразительных искусствах. Первенство за орнаментом. В фотографию натюрморт перекочевал из живописи. Разумеется, он пришел с историей, стилями, классическими образцами и, наверное, обычаями, которые давно уже стали нормой. В живописи, например, есть поджанр натюрморта – «Суета». Звучит на латинском vanitas, не в пример простушке «суете», благороднее и даже многозначительнее. Латынь сотни лет была европейским языком науки и всякое упоминание слов мертвого языка все еще вызывает неосознаваемый душевный трепет. Еще эффектнее можно произнести драматическим, если удастся, шекспировским слогом имя другого поджанра натюрморта – memento mori. В переводе с латинского - «помни, что умрешь». В хорошей компании упомянутые эти названия могут прозвучать as if by philosophically («по-философски» переводится на русский, а ведь на английском тоже кажется более значимым, верно?)
Латинское natur mort прижилось в русском языке как слово иностранного происхождения натюрморт. Варианты переводов - «мертвая натура» или «неживая природа» - уже давно не используется в современной бытовой лексике. За границы изобразительного расширилось и понятийное содержание термина «натюрморт».
Натюрморт и в живописи, и в фотографии претендует на статус жанра этакой академической знати. Он далек от драматических сюжетов, пафоса трагедии или фестивальных восторгов. Этот жанр вообще не повествует о событиях. Он провозглашает status quo предметов и открывает человека, как предтечу приземленного. Как и поэт одной меткой строкой может охватить все судьбы мира.
И при этом натюрморт ужасно прост. Кажется бесхитростным и откровенно открытым. Автор может не задумываясь сбросить предметы в кучу, а получится, что в натюрморт. Редко кто призадумается над противоречиями в их сосуществования. Увлечется ли смыслами и значениями автор, глядя на неожиданное свое творение, не знаю... Все кажется заурядным. В натюрмортову кучу соберет все, что, как потом покажется, должно принадлежать ей. И все. Натюрморт приготовлен. Снимай и выставляй...

К слову, о куче... В переводном журнале «В мире науки», издаваемом в США, в 90-е, если память не изменяет мне, была публикация в той рубрике, которые называют развлечениями ученых. Не припоминаю названия, но статья была о том, с какого минимального количества предметов миру является «куча» Выяснилось, что куча начинается с трех предметов. Математические выкладки прилагались. Забавно. Не только искусствоведы, оказывается, способны изящно разводить демагогии.
Известная мистическая сила числа три кажется установила порог и для живописных натюрмортов. Фотография же, по беспечной молодости лет, смыслами числа предметов себя не обременяла. Знаменитые, так называемые (не знаю кем, но названо метко) «простые натюрморты» Судека, например, содержат и один предмет.
Было и меньше одного. В фотографиях изображали (и продолжают) беспредметные плоскости. Права на их изображение много позже присваивают себе концептуалисты, прочие модернисты или artist of contemporary art (художники «современного искусства») И зря. Стены, иногда с рисунками теней от неровностей поверхности или с царапин..., разве не те же натюрморты. А прочие плоскости с милыми изъянами, чем не те же натюрморты... Именно художники фотографии обратили внимание на них, как на отдельные художественные объекты.
«Роза пахнет розой, Хоть розой назови ее, хоть нет» («Ромео и Джульетта» Шекспир в переводе Пастернака)
Да… Нигде не сказано, что предмет натюрморта должен быть отделяемой от фона частью. Впрочем, в изображении нет предметов, но только их проекции. Чего проще знать, что проекция предмета на плоскости (будь то в живописи или в фотографии), не более, чем чередование светлых и темных полос и пятен. Сознание, конечно, подыгрывает нам, восстанавливая иллюзию объема. Восстанавливает потому, что узнает. Мышление восстанавливает трехмерный образ предмета, даже если мы ничуточки не знакомы с начертательной геометрией.
И почему обязательно должен быть предмет… Нигде не указано на обязательное присутствие предмета в натюрморте. Впрочем, о натюрморте вообще нет никаких весомых указаний. Может, и были в глубине веков, но не прижились.
Это раздражает фотолюбителей, жаждущих творить высокое искусство строго по инструкции, чтобы наверняка. Мы можем гордиться тем, что впервые правила «созидания» действительно были выдуманы в бывшей стране советов. Но, похоже, больше никому в мире они и не были нужны. В прочих странах по правилам шедевры не делают. То ли не получаются, то ли о правилах не слыхали. Со временем выяснилось, что и у нас творить по правилам не получается, получается только говорить про это.
В портретном деле правила еще исстари пытались привить. Еще задолго до эпохи учебников по культуре для пролетариата. Правила объявляли вовсе не для достижения творческих высот. Стоглавые соборы строго наставляли богомазов как и что должно изображать. Сурово грозили отступникам от правил карами земными. Стало быть, еще тогда мастера уже презрели нормы и отступали от них во имя совершенства. Неистребима вольница художников.
Бытовой фотографический портрет канонизирован донельзя. Штамп ремесленного портрета интернационален. Приемы изображения идентичны и в Москве, и в Новосибирске, и в Нью-Йорке, и в Рио, и в Йоханнесбурге, и в Токио... Что ни парадный, представительский или служебный портрет, то чистый канон в позах, мимике, одежде, макияже, прическе и прочее. И, между прочим, начала этого ремесленного стандарта теряются в тысячелетиях истории портрета. Веками общество накапливало фантастически живучие установки на то, как «хорошо выглядеть». Может быть, причина изобразительных стандартов скрыта в культуре человека. Это еще и вопрос креативности. Вечно мы подражаем тому, что однажды у кого-то «хорошо получилось». Оглядываемся, опасаясь нелестных оценок толпы, публики, бомонда… Толпа не выносит самобытности. Обычай «быть как все» укоренился в бытовом фотографическом портрете, подражающему, между прочим, живописному станковому портрету.

Отвлекся... Портрет - нескончаемая тема… Но не без пользы. Натюрморт, хоть и сказано, что мертвая натура, а все же может складывать в изобразительную кучу не только мертвые предметы. Кстати (откуда и берутся эти вылезающие из-под руки «кстати»…), тему запечатления мертвых долго практиковали в живописи. Картины писали, например, в интерьерах мертвецких, изображая традиционный полукруг из врачей и профессуры у стола с синюшным трупом, которому придавали непременно трагическую позу. Этими врачебными «дозорами» (да простит меня Рембрандт…) украшали интерьеры. В простонародной фотографии, а так же в высокопрофессиональном запечатлении «последнего пути» вождей и выдающихся личностей эта тема также находит ярых поклонников. Массовая страсть к фотографированию похоронных обрядов создает впечатление традиции.
Народ большой охотник до гуляний. Слова из сатиры Ювенала «хлеба и зрелищ» стали даже формулой политической технологии. К тому же существуют традиции отмечать вехи жизни, как и ее окончание.
Фотографии покойников находят особенно торжественное место в домашних альбомах. Хранят их рядом с ликами здравствующих членов семей. Сомнительное удовольствие для созерцания.
Тем более странно иногда слышать в просвещенной (хочется думать) фотолюбительской среде возгласы неудовольствия по поводу натюрмортов Виткина или Саудека. Подумаешь... Можно было бы и отмахнуться от скептиков и ханжей. Торжественные церемонии по поводу окончания бытия имеют вполне международный характер. В толпе всегда находятся желающие сфотографироваться на месте катастрофы, у памятников ужасающим событиям или на фоне бренных останков. Кажется, этим человек подсознательно утверждается в этом мире. Люди находят этические стимулы в запечатлении с покойниками. И, нужно отметить, что вместе с тем имеет место и эстетическое наслаждение. Удовольствие, как видим, может доставлять и печаль. И чем не натюрморты все эти сюжеты в системе ценностей изобразительных искусств?
В натюрморте правил нет. Есть неписанное повеление здравого смысла. Должны быть предметы. Или нечто такое, что способно выполнить в натюрморте их изобразительную функцию. Добавлю, закругляя мысль, что они должны быть собраны в кучу.
Нет такого предмета, который был бы главным предметом человечества. Предметов, близких духу каждому из нас, пожалуй, вообще не так уж и много. Впрочем, дух одного человека не схож с духом другого, несмотря на генетическое родство телесных оболочек. Предметов много. Но у каждого свой двор и он не велик.
С другой стороны, можно задаться вопросом: а какие - такие предметы в окружающей нас среде указывают сами по себе на родство с духом человеческим. Определенно, таких нет. Все дело в нас. Человек сам назначил себя центром мироздания. Невольно, но таков человек. Всему окружающему миру его пытливость, интерес и нужда назначили связь с собой. Какие из предметов ни возьми в кучу, наше странное свойство присваивать сущности увиденному, наша способность видеть или находить связи во всем и между всем, непременно обнаружит в этих предметах какое-то родство и найдет объяснение их взаимному расположению.
Зритель вполне может принять авторскую точку зрения в выборе предметов натюрморта. Уже только потому, что человек. Даже доверяясь только знаниям о каком-то предмете, вовсе не видя его, или только на основании слухов он включает его в свой мир. Этот мир он создал из ощущений действительного в воображении. Сам же и назвал его мирозданием, и еще назвал Вселенной. Мы ограничиваем восприятие мира образом его представления.
Что касается связей между предметами, то, как известно, это такая же игра сознания в наделение предметов окружаемого мира чертами человеческого духа. Мы же сами отбираем и выделяем значимую для нас информацию из огромного потока ее от предмета. А потом назначаем ее свойством предмета. А значима она потому, что действует на нас особенно. Все дело в том, что явилось для нашего подсознания стимулом для любопытства и затем отразилось в чувственных переживаниях. Мы и «связываем» подсознательно предметы окружающего мира между собой тем только, что их ощущаем. Человек воспринимает только ничтожную часть информации из окружающего. Но чванливая его сущность, представляется ему центром мира. Из ограниченных способностей ощущать человек создает иллюзию завершенного мира. Самообман. Успокоительная ложь во спасение. Но уж как есть…
Вот так далеко, рассуждая о натюрморте, мы можем зайти в совсем не изобразительные глубины мертвой натуры. Да пусть бы она была и живой. Ей все равно суждено ходом вещей в природе, рано или поздно, стать мертвой, а потому вполне пригодной для натюрморта. А потому, так ли это важно для натюрморта…

По моему ощущению, сдобренному кивками согласия от моей же интуиции, большие или меньшие признаки натюрморта, можно найти в любом жанре. Впрочем, как и в естественной среде. Это зависит от того, кто смотрит и что он способен видеть. Натюрморт, в интерпретации видящих, ближе к вечности. Автор пытается проникнуть под покровы обыденного, внешнего. Зачастую, и не понимая в себе такой смелости, намеревается открыть в форме предмета возвышенные интимно-сокровенные таинства человеческого духа. Получится, если чувства наэлектризованы ощущениями мира.
Зрителю неведома авторская задумка. В образе, который создает в себе зритель при восприятии натюрморта, нет места ни авторской воле, ни значениям предметов, ощущаемых автором, ни авторского видения пространства. Все переживания зрителя это его собственные чувственные откровения, взятые из собственного опыта.
Если зритель без энтузиазма читает натюрморт, словно подглядывая от скуки через плечо в чужую раскрытую книгу, то или натюрморт не случился, или зритель.
(Восприятие перевоплощает информацию от предмета в образы духа, оцененную реальность, опыт. Восприятие не рационально. Мышление коварно «редактирует» реальность пониманием, знаниями. Собственные оценки прошлого опыта влияют на восприятие реального предмета. Эти процессы не осознаются. Человек не способен ощущать так же и всю информацию о предмете. Диапазон чувств примитивно ограничен. Восприятие к тому же нацелено на ситуативную оценку реальности. Зритель при всем этом переживает образ предмета так, словно это самый что ни на есть образ реального предмета. Он не подозревает, что в действительности мышление создает только образы оцененной реальности. В этом огромная проблема познания, и великая сила искусства, и немного еще искусного ремесла.)
Если упростить сказанное, то следует сказать, что видим мы, в искусстве и в природе, только то, что позволяет нам видеть наша культура. Это вполне относится не только к зрительскому восприятию, но и к тому, что автор видит в своей же работе после ее совершения.
Натюрморт начинается с отбора предметов. Это очень личное, чувственное занятие. Художник, если он не позволит захватить себя поверхностным смыслам и если у него еще и найдутся силы продолжить сопротивляться их влиянию (а их навязывают нам со всех сторон), отдаст комбинирование натюрморта чувствам.
Возможно, он настолько углубится под спуд реальности, что будет чувствовать любой из жанров натюрмортом, отдавая должное великолепию и торжеству натуры. Неважно, мертва ли она или нет. Пока еще нет... Она существует и потому владеет его помыслами, надеждами и предчувствиями.
2. Куча предметов.
А зачем, собственно говоря, создавать натюрморт? Почему? Почему натюрморт, а не, скажем, стрит, портрет.., да все что угодно, почему? Разумеется, есть вполне понятное желание испробовать силы в разных жанрах. Опытный автор приходит в натюрморт не случайно. Погрузившись в натюрморт и испытав себя натюрмортом, он отныне многое будет способен видеть и снимать как натюрморт, и улицу, и портрет, и стрит, и орнамент. Жанр – это форма выражения авторской интенции, но не ее содержание.
Хемингуэй кому-то писал о профессии писателя, что если можешь не писать – не пиши. Без натяжек это касается и фотографии. Остаются навсегда те, кто не может. Другим достанется фотоаппарат как копировальное устройство и… цветы, травинки, птички, развалины, водопады, поляны, скалы, прочие виды, и тела.
Если точка возврата в «не фотографию» оставлена далеко позади, то возникают вопросы. Не у всех, только у достигших. Странное состояние неудовлетворенной страсти к прекрасному в мире, перенасыщенном обыкновенно красивеньким. Повседневный спрос опошляет красоту. Она усредняется и теряет величие особенности и неповторимости. Красота не ходит в массы, она отдается восприятию интимно и избирательно.
Если автор способен к высочайшему напряжению в выразительности, он может создать в фотографии драматический спектакль духа. В нем нет статистов среди предметов, они исполняют свои роли с высочайшей отдачей. Их форма изыскано точна. Но при этом, это ощущение лишь отправная точка для воображения. И для автора, пока он весь в чувственном потоке создания натюрморта и вслед за ним для зрителя, когда автор с надеждой отдаст свое детище созерцанию. Если между ними протянется связующая нить художественного, возможно, воображаемое действие спектакля развернется в авторском воображении, в его ролевых интерпретациях.

В натюрморте группирование предметов содержит некоторые признаки мизансцены спектакля. В нем есть элементы актерской паузы в замершей мизансцене театра и фотографического метода, приближающего рамку к мизансцене, стоп кадра из кинематографа, упорядоченной суматохи закулисья, неспешного рассказа ведущего и детской игры. Этот замерший на мгновение фотографический спектакль состоит из акцентов изобразительных многозначностей деталей, тональных и цветовых нюансов формы и иллюзий, заимствованных (и переиначенных по-своему) в совершенно, казалось бы, неродственных искусствах...
Но…это потом, в самом конце...
Начинается натюрморт с простой кучи предметов.
Если предметы одушевленные, то автору следует или расставить их в соответствии со значениями, или подобрать соответствующую значениям точку съемки.
Возьмем, к примеру, свадебные натюрморты. Там фигуры расставляют по той же схеме святочных открыток «вечной любви», раскрашенными красителями для ткани. Эти одушевленные предметы управляются командами – где и как стать, куда смотреть и что выражать. Щелчок! Получится даже лучше тех открыток!
Свадебные фотографии - это натюрморт, но мастеровой, ремесленный, то есть. Кому-то станется обидно, что не искусство, но нужно понимать. Это как валенок. Обувь. Но не модельная. Вполне удобно, но без изыска. Так и свадебный натюрморт - валенковат-с... Не без художественного и не без изысков творчества порой. Но в целом, вполне конвейерный товар, в рамках стандартных впечатлений общества, предвкушающего земные радости.
Никто не ошибется жанром, рассматривая фотографии даже самой креативной свадебной съемки. Ремесленник усердно отработает свадебный обряд. Он точно выставит предметы в соответствии со стандартом «свадебной красоты» поз, жестов, взглядов... Натура свадебного обряда всегда нормативна и потому мертва. Люди вполне телесны и живы, а выглядят суше воблы. В воображении мы способны оживлять даже камни, но не ремесленную натуру. Свадебные съемки - дань преходящей исторической моде. В них неиссякаемая страсть выглядеть не хуже других. Массовая культура вечна.
Любая обрядовая съемка (не путать со съемкой обрядов) нормативна. Кроме свадеб, можно назвать крестины, юбилеи, запечатления у памятников…
Но этим неисчерпаемую и малоинтересную тему заказных натюрмортов мы завершим.
Вернемся к натюрморту, составленному из неодушевленных предметов. Никто из них не потребует, чтобы фотограф сделал им так же «красиво», как у других. Чем не счастье…
Но в обычной куче яблок, в отличие от свадебной суеты, непредсказуемые сложности начинаются с самого начала. Чтобы там не говорили, но авторы начинают с полного отсутствием понимания с чего начинать и как развивать сюжет. Кажется, просто возьми подходящего размера посуду и сложи туда яблоки. Поставь свет, чтобы все было видно, подсвети фон, как не раз было подсмотрено и… вот тебе на, натюрморт. Готов сюжет.
Но мы-то знаем, что нет. С виду, похож. Но в голове будут назойливо вертеться обрывки воспоминаний из произведений разных авторов. И так было сделано, и этак уже было... С виду похож.., а не натюрморт. Банальная схема. Заблуждение ума. Этакий вариант школьного урока рисования на заданные темы. Только в неуверенные руки вложили фотоаппарат. И дрожащие линии вдруг сменились строгими и изящными контурами от таланта инженеров, создавших оптику и механизм.
В классическом наследии, еще до фотоаппаратных совершенств, мы можем видеть всевозможные вазочки с фруктами, развалы кушаний на столе, букеты пышностей и разноцветий. Это тяжкие оковы визуальных традиций в натюрморте. Немного усилий и мы поймем, что фотоаппарат вобрал в свою конструкцию ремесленный опыт изображения формы. Не лучше и не хуже, чем это делали вручную. В давние, суровые ученичеством времена, достаточно было прослужить мастеру какой-нибудь десяток лет в подмастерьях и мастеровой мог изобразить не хуже, чем сегодня Canon или Nicon. Шуточки…, но ведь в этом присутствует и изрядная доля правды.
Действительно важно намекнуть зрителю, где, в каком месте изображения затаилось начало спектакля натюрморта. Впрочем, это касается всех жанров визуальных искусств и довольно значительного числа зрителей. Утомительный вопрос - «Что он хотел этим сказать?» - возникает не только в виду совершенного зрительского невежества. Да и понятно, кто и где у нас учит видеть и отличать вульгарное от совершенного, искать в себе смыслы вечного и прекрасного? Но этот вопрос может возникнуть еще и по авторской вине. Уж чему-чему, но технике и прочим ремесленным приемам обучиться можно. Не учат у нас зрителей только эстетическому вкусу. Искусству изображать, умению достигать художественного совершенства не учат и авторов так же. Или вот именно по-таковски учат, поиску смыслов художественного, чего нет и чему небывать. Автор нередко слеп душой из-за неумения выбрать натуру по чувству, расставить выразительные акценты...
Акценты направляют восприятие зрителя. С наибольшего из них, по авторской подсказке, восприятие "разворачивает" спектакль созерцания. На этот счет нет никаких геометрических вычислений (даже и удивительно, что еще не приспособили), хотя физиологические основания кое-какие имеются. Глаз зрительский не беспорядочно обегает изобразительные веси. Он выискивает важные подсознанию элементы для формирования образа. Абсолютно точно можно утверждать, что авторская расстановка акцентов, как и умение их выделять зрителем, прежде всего и в главном, находится в зависимости как от физиологии, так и от общей культуры, вкуса и прочего, имеющего отношения к чувству прекрасного.

Память авторов истязает их дух творчества. В глубине души даже самых художественно раскованных демократических граждан жизненный путь с раннего детства отлагается дремучим наследием среды. Независимо даже от ближайшего окружения воспитателей, уже хватило бы только одного общения со сверстниками, с улицей, с толпой. Окружающие приводят сознание к духу средне взвешенного индивида. А в среднее, как известно, общество складывает и самое низменное, и непостижимо возвышенное. Массовая культура потом делит общее достояние поровну на число участников человечества.
Все и каждый привносят всем и каждому в сознание по крупицам или целыми пластами наследие паллиативов и табу всей культурной пирамиды общества. Среда вносит (втемяшивает - правильнее бы нужно сказать…) «правильные» установки. Пошлость очевидного, доступного массам, начинает противостоять глубине философского, редкого и особенного. Мудрость в повседневности, отнюдь не очевидна.
Признавая определенное давление знаний (это я о том, во что убеждают верить как в правильное…) на авторскую самобытность (что-что, а она-то и не может быть правильной по определению), нужно признать, что знать все же лучше, чем полагаться на здравый смысл, полезный для жития. Искусство только бесполезно. Критически и скептически, но все же знать. Иначе каждому претенденту на место в мире искусств пришлось бы самостоятельно постигать всю историю культуры. Но жизнь человеческая такого времени не предусматривает. К сожалению (для авторов, которые когда-то, но придут к пониманию упущенного), незнание основ, эстетического наследия, пренебрежение мудростью и поверхностное знакомство с библиотекой классики служит плохую службу. Потому частенько верстают натюрморт, своеобразный визуальный рассказ из предметов давно и многократно пересказанного натюрморта.
Минуем и это. Клянемся себе (про себя, конечно.., в крайнем случае, шепотом), что отныне делаем только то, чего никем не было сделано. Никем и никогда. (Хороший заказ на творчество, заметим…)
Вернемся к яблокам…
Уж, с чем, с чем, кажется, но только не с яблоками можно создать оригинальное действо мертвой натуры. На эти предметы изведены тонны краски живописцев и не меньше материалов у фотографов.
И все же... Почему так меланхолично привлекательны яблоки, собранные вместе, в кучу… Конечно, следует подозревать в этом первичные эмоции. Они, скорее всего, исподволь подкидывают здравую мыслишку о привлекательности этого фрукта для пищевого благополучия. Что ж греха таить, физиологические удовольствия отражаются и в эстетических воззрениях. Дух прекрасного в эротике, например, выпестован возвышенным благоговением формы из тривиальной похоти. Чему есть и вполне научные обоснования. Humana non sunt turpia. Деликатность только объедает знания. Ведь решительно никто не унизит себя словом за свой же инстинктивный призыв к обладанию. Чему удивляться, мы герои или жертвы нами же сотворенной этики. Как в детской игре: «красного и синего не называть...»
С натюрмортом все так же. Условностей, мешающих простоте изложения в натюрморте не счесть. В возвышенном эстетическом вообще немало (если не все…) вульгарных начал от каких-нибудь допервобытных геномов. Искусства сложились в человечестве гораздо позже кулинарных пристрастий.
Мы забываем светлые поры чистого первозданного творчества. Многим доводилось наблюдать, как малые дети изобретают конструкции. Незамутненный физиологическими пристрастиями разуме их совершенно свободен в творчестве. Пока гормональный аппарат еще не раззудил младенцев, а общество не забило голову нормами, до той поры помыслы их не сдерживают установки правильного поведения. Их приучат. Но не сейчас, потом...
В детях, в первозданном замысле мы видим неизбывную потребность человека в созидании. Дети строят конструкции из предметов безо всякого поверхностно читаемого смысла с аляповатой корявостью формы (что нимало их не смущает!) Кажется, в детстве в чистом виде нами руководят глубинные мотивы, побуждающие к созиданию артефактов. Мы можем смело находить в них начала множества взрослых занятий, в том числе и создание натюрмортов. Что-то ведет младенцев к духовным удовольствиям от результатов не потребительского творчества. Они находят удовольствие в соединении предметов.
Но и это не наша проблема. Мы можем только коснуться ее и взять в свою тему немного идей с поверхности впечатлений. Возможно, это приблизит нас к раскрытию натюрморта.
Итак, нам просто нравится, в силу скрытых от нас же причин, конструировать форму той самой кучи. Ну, и рассматривать все это, конечно, тоже. И нам, в какой-то мере, не принципиально важно (хотя, это еще как сказать...) из каких предметов она состоит. Мы можем и не особенно задаваться вопросом, связаны ли смыслами избранные предметы или, наоборот, не противоречивы ли их сочетания. Ведь касаются они порой и противоположных сторон нашего бытия и по-разному привлекательны нам. Предметы сами по себе есть отдельное целое,.. пока наше чувство не ощутит естественность их взаимного расположения. Тогда каждый из них, сохраняя свою индивидуальную цельность, станет частью общего целого. Все предметы вместе создадут натюрморт. Но это в идеале, конечно, если автор достигнет совершенства.

Но как же быть с натюрмортом из одного предмета?! Ведь мы не можем изменить контуры его формы, разве что разрушим его. Это тоже путь. Но не решение проблемы. Появится два или несколько новых отдельных предметов из одного.
Как же быть с одним, вот задача… Подумаем, можем ли мы изобразить на фотографии (пусть и в картине, и где угодно еще…) предмет, не изобразив пространство вокруг него? Если изображен предмет, то должно быть изображено и пространство вокруг него. Если вокруг предмета нет изображения, то лишенная изображения «пустота» вокруг предмета и будет играть роль пространства. Наше воображение создаст взаимодействие между ними.
(Предметы изображений «взаимодействуют» в воображении. Человек присваивает им значения и свойства. Присваивает и этим же связывает предметы в воображении. Не было бы созерцающего предметы человека, не было бы и взаимодействия предметов) Впрочем, об этом говорилось ранее.
Если это было убедительно, то взаимодействие предмета и пространства, создаст в сознании представление о новой форме. Она охарактеризует единство объекта, составленного из предметов. Уже не куча, а натюрморт.
Пространство изобразить невозможно. Это идея о свойстве материального мира. В быту мы понимаем этот, как свойство чего-то, что способно вмещаеть в себя нечто. В изобразительных искусствах впечатление пространства производит все изображение. В жизни пространство не может быть видимым, но в фотографии оно осязаемо. Его материальность (ведь восприятие меркантильно, оно передает ощущения только оматериальных объектах) реализуется перспективными искажениями предметов, эффектами атмосферы и, конечно, такой странной, не существующей в действительности субстанцией, как фон. Изображенная среда вокруг предметов обладает в восприятии такими же свойствами предмета. Человек в воображении способен опредмечивать даже не материальные объекты и делает это неосознанно. В искусствоведении, например, есть термин, «тон произведения». Это выражение обозначает ни что иное, как воображаемое свойство (доминанта цветотонального решения), как если бы цветность была свойством «предмета» по имени «пространство». Мышление, как само собой разумеющееся, определяет свойства у таких мнимых предметов, фантомов воображения. Например, зритель легко ощущает в изображении воздух, хотя в плоскости изображения ничего такого нет, да и в реальности воздух невидим.
И снова возвращаемся к яблокам… Надоели уже, конечно, но если нащупаем нить с яблоками, то, наверное, кое-что станет ясно.
Будем складывать яблоки и так, и этак… Свет и фон пока не трогаем. Они важны, но рассмотрим их потом. Не будем только забывать, что и предметы, и свет, и фон действуют на зрителя нераздельно и одновременно. А так же, геометрические формы предметов, освещенности, тон, фактуры, цвет и контрасты поверхностей.
Все, что есть в изображении, все характерные и не характерные детали зритель воспринимает как единую форму. Под словом форма (forma, ?????) здесь имеем в виду соединение элементов, которые обладают признаками неразрывного единства, цельности и связности.
Замечу, что термином «форма» объясняют разные сущности. Термин «форма» имеет множество значений, от наибольшего обобщения, определение которому читатель только что видел, до указания на некоторые внешние признаки предметов. Термин «форма» может указывать на контур предмета или группы. О различиях не лишне помнить.
Если достаточно долго группировать почти однотипные предметы (те же яблоки, будь они неладны…), то можно заметить, что впечатляющих воображение вариаций не так уж и много. Да и различать яблоки в куче не просто.
Рассмотреть индивидуальные различия мы может только приблизившись. (Один из аргументов в пользу большого размера фотографий. Ирония, конечно, но не без оснований)
Собранные в кучу, яблоки почти неразличимы. Отсюда понятно и неодолимое стремление экспериментировать с внешним видом, чтобы выделиться из толпы.
Различия! Индивидуальные особенности! Ненасытное стремление к новым впечатлениям!
Это самое важное! (Может и не самое, но поспорит с любым) Не они ли так интригуют нас, подталкивая к смене впечатлений? Путешествия, погружения в микромир, наблюдения в космосе, подводная съемка… Увлекает все, что противостоит обыденности.
Впрочем, желание познавать неведомое естественно для всякого живого. Особенно пристальное, даже дотошное, но подсознательное внимание нашего восприятия вызывают необычные формы. В мире выживания живым организмам чрезвычайно важно вовремя распознать источник опасности или удовольствия. Для управления поведением крайне важно умение определять индивидуальные особенности. Эволюция закрепила эту стратегию поведения. Естественно, что проявляется это в человеке и в искусстве.
Но у нас натюрморт. Мертвая натура, между прочим. Экзотические впечатления не помешают. Настораживает то, что они легко подменяют порой рассеянной любознательностью глубокий интерес.
А у нас натюрморт. Объект чувственного переживания. И лишь затем, (и вовсе не обязательно) удовлетворив интерес к открытию эстетического совершенства, он может пригодится и исследователю.

Тонущие в однообразии «нехудожники», мнящих себя художниками, наоборот нуждаются в непрерывной смене впечатлений. Они не достигают в творчестве совершенства, не получают наслаждения, к их мозгу не приливают нейромедиаторы, необходимые организму. Они находят источник стимуляции мозга в захватывающих дух ощущениях. Искусство действует на человека иначе. Те, кто способен созидать, и те, кто способен сопереживать, получают острые впечатления от собственных фантазий, переживаний художественного образа.
Заметим, что произведения искусства создаются не для понимания. Для этого пишут учебники, научные труды, руководства, инструкции и тому подобное. Искусство дано человеку в чувственных переживаниях. Это естественная потребность в ощущении красоты и совершенства. Потому и возникло искусство в человеческом сообществе.
И у нас натюрморт, пища духовная.
Если автор покажет миру все те же яблоки, в привычном их воссоединении в кучу или даже отдельно (разве что, сменив размер и сорт, как стоило бы шутить) то это не привлечет внимание ценителей муз. Избито все. Что ни покажи, уже было и сто раз перебыло. Искушенного и даже в пол-искушенного зрителя можно завлечь только необычным. (А еще задаются вопросом, откуда взялось «современное искусство»… От в пол-искушенных)
Новизна должна быть впечатляюще существенной. Не обязательно значительной, но непременно небывалой, поражающей, как всем целым, так и отдельными существенными элементами. Искусству авторская уникальность необходима, чтобы состояться искусством в чувственно мышлении зрителя. Без этого акта внутреннего переживания чего-то, как искусства, самая искусная картинка будет восприниматься, как обыденная вторичность и может восхищать только мастеровитостью, высоким ремеслом.
Ощущения непредсказуемы. Они могут вводить нас в священный трепет какой-то почти неприметной складкой на платье инфанты или швырять в неожиданный восторг с первого взгляда на произведение. Чувства искренни. Недостатки отвергаются ими резко, безапелляционно и нелицеприятно.
Если ощущения искусства нет, то образ отражения предмета, выставленного как искусство, не обретет в воображении черты художественного образа, развивающего на авторском материале зрительские идеи. Нет восхищения и нет поддержки интереса. Искусство ведь не в произведениях, а в сознании, и только в нем. Произведение, в котором восприятие ощутит виденное однажды и повторенное, даже случайно подобное, не впечатлит до умопомрачения. Искусство впечатляется оригинальным ощущением самобытной авторской работы. Жизнь этих восторгов общения с произведениями едва поддерживается копиями, репродукциями, воспоминаниями…
Живописец, желая остаться неповторимым, будет искать в форме изображения все тех же надоевших яблок, нюансы необычного цвета и тона. Возможно, попытается разоблачить обыденность формы. Желая неподдельных и ярких зрительских страстей, он устремится создавать стимулы для воображения зрителя. Извечная ошибка в том, что реакции зрителя авторы всегда пытаются предугадать в собственных переживаниях своего произведения.
Фотограф творит иначе, но с той же ошибкой. Свет, детали, еще детали, цвет, рефлексы, тени и, наконец, опять детали… Но и он, еще до съемки, вполне может усомниться в незыблемости, достаточной завершенности, совершенстве форм яблок. Техника позволяет заставить трепетать форму каждого яблока или всех вместе. Но еще особенное состоит в том, что натюрморт дает огромную фору фотографу, позволяя неспешно фантазировать и философствовать.
Никто же не мешает, например, даже механически совмещать форму яблока с другими. В конце концов, можно даже раскромсать эти яблоки. Из растерзанных частей можно конструировать этакие необычные яблоко-предметы, сохраняя их в теме узнаваемой яблоковости формы. Предложение кардинальное, но, конечно, вовсе не обязательное. Описание решительных действий только обозначают одну из множества возможностей.
Заданность формы от природы не догма. Мы легко можем изменить форму человека простым переодеванием, макияжем и уж совершенно до неузнаваемости программными средствами… Есть и еще варианты...
Важно, при любой творческой атаке на форму, не заступить за предел узнаваемости предмета. Если его безжалостно переформатировать или встроить в нечто, он должен быть узнаваем. Необычным - да, сколько угодно, но непременно узнаваемым. Кому нужна надоевшая до чертиков невыразительная куча неопределенностей, виденная и перевиденная в мусоре… Узнаваемость ведет к определенности и идентификации свойства. А в бесформенном (а именно потому оно не узнаваемо) одно свойство – ненужное, мусор. Хаос в форме связан только с отсутствием понимания у наблюдателя закономерности этой формы, а следовательно, узнавания. Мышление, наоборот, пытается подогнать неизвестные формы под известные. Это мило проявляется в «узнавании» предметов в форме облаков и это же ужасно мешает науке, пытаясь подогнать «узнавание» обычного в необычном явлении.
«Современное искусство» (на языке происхождения, по-английски, contemporary art) во всю эксплуатирует идею реконструкции привычного предметного мира в невиданные до шокирующих сочетаний. Заметим, поражается обывательское сознание, в той или иной мере, присутствующее в каждом из нас. Шоковая хирургия формы вовсе не означает неприемлемость этого новаторского метода для других визуальных искусств. Да и метод этот взят «современным искусством» из опыта традиционных искусств. Но «современное» сделало парадоксальность реконструкции главным в своем методе.

Разве острый ракурс фотографии, не то же взрезание, разрушение привычной формы, доведение узнаваемости до предела возможного? Непривычный взгляд удивляет нас новым выражением привычной формы. Это та же реконструкция. Можно вторгаться и в целостность предмета. Но можно и иначе.
Обнаженная натура, в определенном смысле, разрушает привычный образ цельности. Это исторический фетиш, влияющий и на ощущение завершенности формы человека. Человек в одежде, в современной этике общества, это и есть завершенный человек. И яблоко, как цель потребления, привычно нам в товарном выражении. Но совершенно не противоречат впечатлению цельности разрезанное яблоко, которые чаще всего нам предлагают почему-то рядом с ножом.
Нож не при чем. Но обыденному ощущению яблочной цельности нужны намеки на причины необычного превращения их формы. Необходимость намеков к объяснению причин не из мира искусств. Это то, что всегда влияло на искусство с самой нижней ступеньки потребителей красоты – требование всеобъясненности, понятности и логической связности. Социальный заказ на понимание предметов искусства. Отсюда и отношение определенных слоев общества к понятности искусства Пикассо, Кандинского, Манн Рэя, Виткина, Тугалева, Слюсарева… Хотя немного публика пообвыкла, не вся шарахается, терпит и, оглядываясь на соседей, пытается не высовываться, отыгрываясь на не знаменитостях или, не разобравшись в веяниях, на тех, кто в таковых еще не на их слуху…
Во всем можно найти логику и цепь явлений. Все связано со всем. Но будем избегать хотя бы прямолинейных подсказок, примитивных визуальных намеков на простые пояснения. Что хотел сказать Леонардо едва уловимой полуулыбкой Джоконды? И кому? Одна дама воскликнула у портрета Моны Лизы, что никакой улыбки не видит. На что великая Раневская заметила, что «она столько лет улыбалась людям, что на ком-то может и отдохнуть».
Но возвратимся к натюрморту… Форму предметов в натюрморте художник может изменять. Целостность можно разрушить и создать из частей новую форму. …Все-таки создавать целое вновь. Это важно. Неупорядоченные обломки никого не интересуют. Их трудно заставить себя рассматривать. Они утратили узнаваемость, а вместе с ней и индивидуальность. Они стали невыразительной кучей мусора. Обломки тоже являются формой, но их не с чем сравнивать в опыте. Мы называет это бесформенностью. Это определение вполне можно отнести и к куче, если напихать в нее предметов без меры и рассматривать ее за пределами различимости.
Чтобы натюрморт состоялся, все составляющие его предметы или хотя бы части их, должны быть узнаваемыми. Если мы узнаем предмет, то сразу же наделяем его историей, характером и отношением к человеку.
Замечу, что тема мусора непривлекательна в обиходе. Но археологи любят мусор. Они бережно добывают его, называя его «культурным слоем». В нем скрываются ценнейшие свидетельства жизни прошлых поколений. Да и сегодня мусор рассказывает порой о человеческом более откровенно и подробно, чем рафинированные музейные экспонаты.
Кучу мусора, с точки зрения изобразительного, я бы классифицировал, как фрактальный неформатированный натюрморт натюрмортов. Так что, вовсе не обязательно ворошить мусорные кучи. Да, и улица подбрасывает на тротуары и обочины впечатляющие объекты. Их, если нужно, ничто не мешает деформировать или доформатировать. Варьируя точкой съемки и рамкой, нередко можно и без форматирования «кучи» добиться успеха.
Можно даже претендовать на новый стиль в фотографии – этакий Street Still Life (уличный натюрморт с англ.) Похоже, фотографы давно увлечены этим жанром и подобно Мольеровскому Тартюфу однажды обнаружат, что давно говорят этой прозой…
Чтобы поражать и увлекать зрителя, нужно создавать новые формы, новые объекты. Интуитивно художники давно ходят этой дорогой.
В размышлениях о натюрморте, о целостности предметов и о традициях (не помню, приснилось ли мне это…) сохранился в памяти дивный образ с яблоками, которые составлены в необычную кучу. Не на столе и не в посуде... Они возвышались над какой-то поверхностью на палочках, подобных китайским для еды. Палочки были воткнуты в яблоки так, чтобы они образовывали этакую благородную кучу на палочках. Они не лежали, они парили... С этого места, проснувшись, следует начинать манипуляции с освещением, цветностью, нюансировкой деталей и прочее, и прочее…
3. Опыт.
Театр натюрморта Виткина начинается с представления его неожиданных персонажей. Действие разворачивается с рассматривания действующих «лиц» (представленных им предметов) и затем неспешно зрительское внимание сменяется удивлением (во всяком случае, это ожидается посторонним наблюдателем) Зритель частенько даже не поспевает за собственным любопытством, чтобы, как должно, его ошеломило увиденное. Позже он еще будет потрясен, и тут же удивится тому, что автор собрал вместе такие, мягко говоря, разнородные предметы воедино. Действительно, не просто понять, что побудило его отобрать все эти странные предметы. Впрочем, и не нужно. Не для понимания все это.
(Здесь я снова и снова настаиваю на противоречии между рассудочностью понимания и образной свободой чувственного восприятия. Искусство не нуждается в изучении с целью понимания. Зрителю для удовольствия от восприятия достаточно интуитивно навеянного осознания беспричинной и необъяснимой ясности. Чувства несоизмеримо более важны для художеств, чем понимание и логическое осмысление.)
На первый взгляд (поверхностный, поскольку восприятие жадно спешит погрузиться в дебри Виткинских иллюзий, и потому же, наверное, он заведомо ошибочный) предметный выбор Виткина может показаться случайным. Кажется, что в его голове в разыгрывании спектакля натюрморта, правил бал слуга рассеянности, случай. Он собирал на сцену декорации из разных актов пьесы, разыгрываемой по наитию. Предметы Виткина, как бы они не были связаны в одно целое неизъяснимой волей автора, являются все же главными самоценными акцентами, но отрицающими связи между собой и чем бы ни было еще. Отрицающими, но связанными. Все. (Потому его натюрморты почти орнаменты)

Автор расставил акценты не для указания, как обычно бывает, пути последовательного взаимодействия между предметами. Зрителю было бы легче продвинутся внутрь эмоционального бурлеска картины, если бы он двигался по пути расставленных автором акцентов. Виткин делал это, как представляется, отнюдь не заботясь о трудностях зрительского восприятия, не для просвещения и не для легкого удовольствия. Это делалось ради собственного персонального существования предметов на фоне прочих. Мертвое служило образу одушевления, переживания, очувствления… для остроты восприятия. Каждый предмет натюрморта вызван автором к существованию в качестве самоценного объекта нашей (так, полагаю, должен бы и он полагать, что «нашей».., а иначе зачем все это...) жизни. Это, безусловно, подтверждает шокированная и восхищенная публика, и взаимоисключающая критика Виткина.
Сами в себе предметы Виткина являются основой его натюрмортов, директорией и тканью чувственно продуцируемых смыслов. Все остальное изобразительное играет служебную, почти исключительно техническую роль. "Почти", конечно, сказано с натяжкой. Но уж очень нужно подчеркнуть неограниченную смыслами роль предметов в его натюрмортах. Он говорил: «Мне кажется, человек становится фотографом, потому что хочет охватить весь мир и сжать его в один неподвижный образ. Подобно тому, как некто, желающий сообщить что-то важное, хватает вас в охапку и держит, смотря вам в лицо»
(http://www.photoweb.ru/prophoto/biblioteka/Photograph/Witkin/1.htm)
Виткин пытался концентрировать в каждом отобранном им предмете весь мир. Почему тогда он не ограничивал чувственную агрессию единственным предметом? Его способностям одним предметом взорвать чувства зрителя можно не сомневаться. Да он и не ограничивал свой выбор. Мир Виткина своеобразен и это сконцентрировано в его выборе предметов. Кажется, Виткин, оригинальным подбором предметов, пытается сохранить в тайне существование своего мира, но так, чтобы пытливый зритель мог проникать в него. У зрителя колоссальные возможности наполнять смыслами мира каждый из изображенных предметов Виткинских натюрмортов... Он был уверен, как я полагаю, что вмещал весь мир в каждом предмете. Он должен был быть в этом уверен. И, в определенном смысле, у него получалось. Результат напоминает первую погремушку младенца. Квинтэссенция грез и правдивой лжи в притягательной безделице. Серьезнее некуда.
Виткину были скучны связи между предметами, назначенные людьми. Однажды обретя смысл, многие из нас навсегда обреченно суетятся в одном единственном из множества вариантов поля смыслов. Виткин нагнетал в избранные предметы ощущения очеловеченных основ мироздания. Сам человек, я полагаю, был для него вместилищем человека настолько, насколько мог отразить в себе предметную сущность окружающего. Для этого нужно сделать предмет значимым. Незыблемым духом и презревшим собственную форму. Отношение Виткина к мертвой натуре показывает, что реальность, как жизнь предмета по Виткину, ее самобытие не зависит или почти не зависит от одухотворения жизнью. Это натюрмортное мировоззрение. Мертвые тела были для него продолжением жизни, предметным олицетворением вечности. Не думаю, что он жил в иллюзиях. Но он приготавливал зрителю иллюзии, его восприятию, если тому удастся быть отпущенным на волю собственных ощущений. Он искал, по-видимому, разочаровывался и снова искал. Когда, выбор добирался к своему пределу возможностей, то награждал терпеливых потрясающим спектаклем. Разумеется, я не знаю, смог ли бы я указать, не сомневаясь и не отступая, на то рациональное в его произведениях, что натолкнуло меня на эти рассуждения. Я не знаю его мыслей, но Виткин предоставляет каждому из нас палитру со следами воображаемых красок. Ее нужно увидеть чувствами и предоставить свободу фантазиям на эту тему.
А вот Судек манипулировал (хотелось написать, забавлялся…) привычным набором предметов из своего обихода и окружающего мира. Кажется, его восхищало всякое то, что, под соответствующее настроение, случайно попадало в поле его зрения в ближайшем развале предметов. Простые и надежные. Никаких неожиданностей, никакого эпатажа. Покой и абсолютно понятные (ему, конечно…) смыслы и функции… Он, кажется, только рассматривал их, может быть, только едва прикасаясь и отдаваясь воображению. Иные предметы Судек показывал зрителю так, словно заметил их невзначай, мимоходом. Трудов только у него и было (так покажется, неофиту…), что приладиться к ним с аппаратом. Его натюрморты подталкивают к обывательской мысли о том, что Судек не погружался в жизнь предмета. Кажется, что его даже и не интересовала какая-либо жизнь предмета вне натюрморта, даже как возможность переживания, фантазия... Все предметы вокруг него были изначально отмечены, даже припечатаны функциями, поскольку все были необходимыми предметами для обихода. Попадая с предметом в его театр натюрморта, функции отступали так далеко, как только может прятаться личность актера за фабулой роли. Полагаю, он не заботился познавать предмет. Он его чувствовал, как чувствуем и все мы. Но Судек растворялся в предмете, изображая его и отдавая себя ощущениям образа его в себе. И чувств ему было более, чем достаточно.
От предметов, положенных Судеком в сценографию натюрморта, оставалась (как бы…) только оболочка. Красотой внешности предмета он, разумеется, любовался (не могу знать наверное, но как может быть иначе?!) Но есть во мне ничем не обоснованная уверенность, что он пытался и зрителя привлечь к собственному любованию. А чтобы вовлечь понадежнее, указывал путь, по которому и зрительское, и его собственное восприятие разворачивало спектакль положений по его собственному сценарию ощущений. Путь задавался (как водится во всех изобразительных жанрах) акцентами, расставленными на деталях формы. Это акценты взаиморасположения (ближе, дальше от «рампы», расстановка на «сцене»…), акценты освещения, акценты световых контрастов, плотностей, бликов… Он уверенно ставил (хотя и не перемещал, а «ставил», приноравливая точку съемки, кадрирование к состоянию освещения) главный акцент светом, в котором, собственно, как бы растворял функцию предмета, освобождал его от рутины социального и обиходного значений. Судек оставлял предмету приметную чуточку от прежнего его существования для узнавания зрителем. Но в остальном подсознательно полагался (так мне снова кажется…) на зрительскую вовлеченность, на художественность его воображения. Та малость позволяла зрителю, взволнованному поисками традиционных зацепок для своего воображения, не упустить ускользающую нить установленного автором чувственного разумения и… неожиданно, в пылу озарения, перенестись в воображении вовнутрь самого натюрморта.

Натюрморты Судека можно рассматривать и не погружаясь глубоко в сущности предметов (в отличие от предметного мира Виткина). Зритель вначале ощутит удовольствие от непревзойденной тонкости мастерства, а затем насладится великолепием нежнейших полутонов. Судековская «слеза» (как говорили об «отмывке» нежнейших полутонов акварельных фасадов архитекторы старины), отмывала нежнейшие полутона… А чтобы пойти дальше (или глубже…), зрителю нужно бы дать побольше свободы воображению. Простого скольжения по приятным поверхностям может оказаться недостаточно. Нужно заметить расставленные акценты, не выпяченные, порой едва приметные в очень неспешном и ненавязчивом раскрытии сюжета. Их множество. Скорее всего, не все и будут найдены, что случается с каждым его зрителем. Но в этом Судековская своеобычность повествования красоты, в которой каждый находит свой путь постижения прекрасного.
Но вот Саудек. Он не просто избирает необычные эпатажные предметы, но украшает обычные. Он изменяет выразительность традиционного представления об этих предметах в их другой, нефотографической жизни, а может быть, просто в жизни, без художеств. Саудек усовершенствует предметы так, чтобы они стали годными для его натюрмортов. И не просто присочиняет им иную выразительность, но добавляет им прелести и привлекательности. Делает он это настолько виртуозно, что обычные, даже совсем малопривлекательные предметы повседневья обретают славный праздничный вид. Его карнавальное мышление творит фантасмагорические сценарии спектаклей в натюрморте. Его предметы совсем не мертвые, но он создает им кукольную оболочку, застывшую неживую маску живого фестиваля. Очень далекий от классического натюрморта в выборе предметов, Саудек создает натюрморты в чистейшем классическом стиле. По очень многим признакам формы он ближе всего к малым голландцам. Хотя… это не имеет никакого значения. Новизна его образных решений не имеет ничего общего ни с чем и в них безумно много общего с искусством.
«Всегда будут люди, которые смотрят только на технику исполнения — главный их вопрос «как», в то время как других, более любознательных, интересует «почему». Лично для меня вдохновляющая идея всегда значила больше, чем другая информация» Ман Рэй
(http://buy-books.ru/photographers/man_ray)
Очень реалистический иррационалист и, кажется, еще и дадаист, Ман Рэй все же очень мало оставлял ответов зрителям своих натюрмортов на ожидаемое от них «почему». Представляется, что сама возможность вопросов понуждала его быть еще более парадоксальным. Он наперед засыпал другими ответами огромное число пока еще незаданных вопросов, которые и не смог бы задать ему зритель. В этом бессильном для понимания множестве намеков на идеи трудно найти самую важную, достойную вопроса: Почему? Кажется, своего влюбленного зрителя он безнадежно искал всю жизнь.
Натюрморты Ман Рэя, отличаются от тех, что мы только что обсуждали, выраженным безразличием автора к существу используемых им предметов. Его интересовала форма, освобожденная от направляющего влияния обыенных смыслов. Он желал форму, лишенную значений. Так бывает, когда мимоходом взгляд случайно выхватывает из течения жизни какой-нибудь предмет, лишая его связи с тем существующим, что его окружает, несет себе и чем назначает ему смысл в чувствующем человеке. В форме предмета Ман Рэя привлекал только абрис, внешняя линия всего предмета и линеарность и структура деталей. Он использовал условность, иллюзию линии, которая создавалась границей между темными и светлыми тонами поверхностей. Она кажется разделительной линией в воображении зрителя. Необходима эта воображаемая явь для ощущения контура. Этой мнимой линии назначено отделять одно от другого.
Манн Рэй не интерпретировал факты, полагая, что предметы достаточно открыты зрителю. Правильно ставящие вопросы справятся с этой задачей без подсказок. Манн Рэй пытался создавать факты. И у него получалось. Его натюрморты изысканно лаконичны и торжествуют духом инновации, изобретательства. Понятно, что ни о каком воображаемом оживлении фантастмагорически «мертвых» предметов, как у Саудека, у Манн Рэя и быть не могло. Его предметы ни живы, ни мертвы. Они попадают в заданное условия натюрморта – использование мертвой натуры – исключительно в виду отсутствия другого подходящего жанра и только потому, что этот жанр оказывался ближе прочих к солипсическому воспроизведению предметности Манн Рэя. ( Солипсизм от лат. solus — «единственный» и лат. ipse — «сам», признает достоверным в окружающем мире только то, что создано сознанием) Тем не менее, это натюрморт. Натура у него ощущается куда как мертвее прочих.
Натюрморт Манн Рэя стоит особняком. Хотя, Саудека можно было бы, на первый взгляд, считать более удаленным от классического натюрморта. Его натурщики вполне живы, даже пышут жизнью. Но в театре вещей Саудека они изображают чудо оживления мертвых предметов, которые затем легко оживают в воображении зрителя.
Саудек талантливо, почти гениально («почти» потому, что не решаюсь брать ответственность и единолично назначать гениями даже достойных…) умеет изображать почти мертвое перевоплощением действительно живого. Его натюрморты гораздо ближе по духу к классике натюрморта, к роскошным постановкам жирной и обильной пищи у малых голландцев, например. Впрочем, кажется, я повторяюсь.
Скупому экзорцисту формы, Манн Рэю претила роскошь формы, подобострастной вкусу.(В данном случае под экзорцизмом имеется в виду метафорическое изгнание духа, владеющего формой) Он освобождал ее по возможности от оживляющих признаков. Манн Рэй тщательно соскабливал акценты для возбуждения чувствительности, лишая форму своеобразия живого. Он оставлял нечувствительно голую линию абриса и наслаждался, и наслаждал зрителя неживым продолжением ее выхолощенного живого естества, чистым духом формы, почти чистым... Так кажется мне сейчас, что так казалось ему тогда…
Такими скупыми рассуждениями о творчестве больших мастеров фотографического натюрморта я бы хотел подытожить рассуждения о предметной части натюрморта. Конечно, произведения этих мастеров далеко не исчерпывают всю мировую библиотеку натюрмортов. Которые считаются натюрмортами в практике искусствоведения и теми натюрмортами, которые таковыми не считаются, хотя вполне заслуживают этого звания. Так случилось отнюдь не по той причине, что не упомянутые в этой статье проигрывают другим, и не потому, что они могут показаться более уверенными манипуляторами предметов, чем это удавалось другим.
Из названных, Судек, пожалуй, больше других тяготеет к натюрмортам ранней классики. Из неназванных, Ньютон мог бы первым быть, на кого я бы обратил внимание в исследовании натюрморта. Он был жизнелюбом и вряд ли приветствовал бы включение милых ему живых игрушек-моделей в число предметов натюрморта, которым необходимо быть,..ну, неживыми, что ли. Они действительно были самим совершенством живого тела, но изображали, в его фотографическом театре, чистой воды классические постановки натюрморта. Они демонстрировали эстетические идеи, которые Ньютон не умел формулировать, но прекрасно сочинял их визуальные воплощения. Среди незаслуженно не названных необходимо отметить Слюсарева, который активно перемещал объектное место расположения предметов натюрморта на улицы и умело комбинировал ими даже на огромных пространствах. Его натюрморты строго и безупречно составлены в совершенную форму предметами, которые он, казалось бы, не мог управлять. Но он мог.

Мой выбор пристрастен и для существа натюрморта не имеет значения.
Те, кого обычно называют старыми мастерами, далеко не всегда благоговели над предметами. Изменение формы вещей для создания воображаемой реальности вещи, дело поздних растлителей формы. Хотя пионерские прорывы существовали и многие века тому назад. Взять хотя бы ассамбляжи Арчимбольдо или незабываемый этрусский барельеф в цокольном помещении пушкинки, на котором изображен танцующий мальчик, однажды и навсегда сразивший меня.
С предметами натюрморта на том мы закончим.
4. Воплощение идеи.
Натюрморт – это всегда только плоский и всегда только передний план. Ни среднего, ни заднего планов, никаких далей с мудреными туманными размытостями и искажениями перспективы. Плоско и утвердительно, как оттиск печати.
Отвлекусь еще… Почему (так, во всяком случае, кажется) предпочтительнее для натюрморта подбирать старые предметы, с отчетливыми потертостями от употребления? Новые не хуже. Наверное, даже лучше, потому что и прослужат потом дольше. Массы фотолюбительских натюрмортов (и приглядываться особенно не придется) демонстративно добротны. Потребительская красоту в ментальности широких масс сосредоточена в качестве товара. Идеология заказчика малоголандского натюрморта жива и поныне. Заметим, что никто определенно не осознает себя в том или ином культурном слое общечеловеческой культуры. В беседах о натюрморте можно было бы и не замечать эстетические особенности воспитанников самих себя. Но тот факт, что художественное обучение новых поколений фотографов брошено на произвол их безвинного невежества, проявляется и в натюрморте.
Идея натюрморта сформировалась, как кажется, из мелких радостей обладания предметами и любви к ним, как персонажам большого спектакля, каким является нам жизнь. Мы ласковы с вещами, привыкаем к ним, разговариваем с ними, жалеем их и расстаемся в глубокой печали. Разумеется, немалое место занимают предметы для чревоугодия. Это не противоречит нравственности, поскольку поддержание жизни всегда гуманно. Но эта привязанность имеет сомнительное влияние на эстетическое. Забота о прекрасном, если она сосредоточена на удовлетворении физиологических нужд, страдает ограниченностью. Малоголландские натюрморты, подогретые спросом бюргерства, ясно обозначили удовольствие от достатка, от насыщения предметами потребления. Там мы находим и разнообразные яства и посуду.
Времена изменились… Нынешнее мещанство само фотолюбительствует. Простота пользования позволяет заказывать себе фотографии со знамениями достатка. Встречается у них и композиции а-ля «современное искусство», но того же пролетарского одухотворения. Подобное было во времена «пролеткульта»: классы без учителей, оркестры без дирижеров, пьесы без сценариев, чувства без страсти…Все это и не стоило бы упоминания, если бы фотографы были не столь ревниво привязаны к архаическому почитанию потребительской добротности вещи или оборотной ее стороне - моде на старину.
Натюрморт явился нам совсем не для демонстраций житейских вкусов и пристрастий. Чужды ему и тематические подходы.
Композитор кучи предметов часто и не знает, что им руководит то же, что заставляло в свое время его родителей и родителей их родителей любоваться предметами, отвечающими своему времени, но с точно такими же значениями духа. Смысл этакого культурно-наследственно-бытового натюрмортостроения незатейлив. Ему назначено приятным глазу манером намекнуть на полную чашу и на возможные похвалы возможной щедрости. Явление подсознательное, мировоззренческое. Другие, но в той же ипостаси масскультуры, настойчиво и нудно повторяют не однажды уже кем-то сделанное.
Натюрморт все же особенное мировосприятие, чуждое удовольствию потребления. Достижение цели... Но нет, натюрморт вовсе никакая и не цель. Не может быть ею. Натюрморт – жанр, откровение стиля и авторской предвзятости. Высшая степень откровения.

В 16-х - 17-х столетиях, когда заказчиками все чаще становились зажиточные бюргеры, в живописном цехе наблюдалось оживление. Специфический заказчик внес перемены в живописный цех. Вкусы пали. Бюргерство подражало аристократии и пыталось соответствовать их уровню, но чтобы возвыситься им не хватало какого-нибудь десятка поколений. Пристрастия высшего света они перенимали в собственной интерпретации. Подобострастно подражая, достоинства прекрасного чтили по-своему.
Бюргеры создали своего художника, чей вкус был сильно разбавлен потребительской эстетикой. Поэтику возвышенного, отстраненного от земного заменило повествование о красоте полезного и практичного. Увы, эта идея преследует голодных. И когда их потомки прорастают в уже сытые времена, воззрения на ценности мира наследуется в поколениях. Отчасти, но не всегда. Не удивительно, что Рембрант, который жил среди этих, так называемых «малых голландцев», так и не стал одним из них, не заимел своего постоянного заказчика. Видимо, не соответствовал и не потакал.
Во все времена заказывали то, в чем испытывали недостаток. Царедворцы желали изображать себя в величественно-героических позах. Служители религии рассчитывали видеть себя в смиренном сиянии. Новый покупатель жаждал показывать роскошь в еде и достаток в интерьере.
Чувство красоты немощно в окружении навязчивого практицизма. Без позитивного социального поощрения ощущение совершенства в умах страдает субтильностью.
Возвратимся к страстям по натюрморту...
Расстановка предметов натюрморта имеет много общего с построением мизансцены в театре. Предметы «взаимодействуют», разумеется, в авторском, а затем уже и в зрительском воображении. Только в воображении. Но даже в воображаемой мизансцене натюрморта они ютятся на ужасно тесном пятачке. Пространство натюрморта обусловлено необходимостью тесного взаимодействия. Предметам назначено демонстрировать цепкую жесткую связь и близость.
В любом жанре фотографии есть условное «личное пространство» предметов, внутри которого воображение зрителя ощущает их взаимодействие. В реальной жизни люди стараются сохранить в неприкосновенности «личное пространство», выдерживая дистанцию. В изображении близость взаимного расположения предметов необходима для иллюзии взаимодействия. «Личное пространство» предмета не бывает всегда одинаковым или заданным, что зависит от множества причин.
Конечно же, все это условно: «взаимодействие», «личное пространство», «связи»… Мы говорим о неодушевленных предметах. Да и одушевленные в изображениях не более, чем проекции оболочек. В восприятии мы наблюдаем психологический перенос зрительской ментальности на предмет, как если бы он был одушевленным. Это особенность восприятия, особенность одухотворения, путь к созданию художественного образа.
Натюрморт статичен. И физически, и художественно. Он разыгрывает паузу, а действие остается за воображением. Там развиваются чувственные фантазии, придающие ему импульсы движения. Воображение способно оживлять облака посторонних мыслей, возникающих невесть откуда при восприятии, как бы и не связанных с переживанием натюрморта. Но это фантазии «на тему…», заданную восприятием.
Создателя натюрморта заботит только зрительская интерес. Но невероятной тоской пустоты веет от натюрмортов в «стиле» массовой культуры. Стиль апологетики деятельных невежд. Это состояние не осознаваемо, его нельзя поставить в вину этому автору или тому же зрителю. Более того, ощущение скуки при восприятии сюжета (в отличие от скуки воспринимать, отсутствия стимулов, возбуждающих интерес к восприятию…) можно было бы даже и поставить в достоинства произведения.

Мы уже коснулись необходимости пробуждать интерес зрителя к произведению. Выбор предметов главный стимул (кнут, вообще-то, с латинского) для такого интереса. А уж отпустит автор на волю собственное воображение, оно может творить чудеса волшебные для удовольствия зрителя. Мастера, творчества которых мы едва коснулись, не ограничивались только искусным подбором предметов. Они умели их еще и безупречно разместить.
Тут бы уместно автору этаким фотографическим манером (инструментами, то есть, чем еще…) вдохнуть воображаемую жизнь персонажей в отобранные предметы. Расставить намеки, акценты, с которых и пойдет выплясываться нечто в воображении. В мышлении (среднего) зрителя довольно опыта созерцания искусств, чтобы раззудиться фантазиям с умелой подачи автора. Да и натюрморт, довольно много заимствовавший из театра, пантомимы, балета, фольклорного танца может дать множество подсказок для развития художественного образа «по материалам» восприятия. Танец, кажется, особенно близок изобразительному, если не ожидать от него саркастически буквального подражания, но согласившись пережить его красоту поз, мгновенных воображаемых срезов из вихря страсти. Он близок к натюрморту еще и тем, что не вдается в замысловатые драматические хитросплетения и фабулой прост. Относительно прост, конечно, если вспомнить хотя бы фламенко. Все же резв, слишком резв, чтобы любуясь рассматривать позы. Натюрморт куда как спокойнее.
Уж как получится, а не дурно научить себя чувствовать роли, образы отношений, назначенные предметам. Научить не рассуждая, а вживаясь и чувствуя. Система Станиславского в творчестве натюрморта. Святая обязанность автора чувственно переживать спектакль своего натюрморта. Без умения взбадривать воображение и браться не стоит. Тут уж не до удовольствия от свершения. Такая работа хуже поденщины замученного однообразием подмастерья. Конечно, читатель этой статьи понимает, что речь идет не о конвейерных шедеврах, производимых по системе Тейлора, которыми полны фотосайты и торговые ряды с картинами и фотографиями. Мы беседуем об уникальном. Хотя… Каждому из нас нужно помнить, что именно в рассудочном невежестве все уникально.
Кстати, отвлекусь на проблему возбуждения в себе автором состояния творческого инсайта. Судя только даже по многочисленным примерам из творчества известных мастеров искусств, состояние это вполне создаваемое по воле автора. Приказать себе невозможно, озарение игнорирует волю. Но оно вполне откликается на раскрепощение чувств, освобождение разума от повседневности и текущих забот и обусловлено только необходимостью полного погружения в творческий процесс. Тут в самую пору поучиться у детей их самозабвенному погружению в воображаемые миры. Они все как один легко преодолевают барьеры разума, этических табу и эстетических норм. Но взрослеют, чувства грубеют, что ли, и…без поддержки восприятием художественного способности погружения в иррациональные переживания реальности увядают. За ненадобностью, наверное.
Расставить предметы… Чего в этом больше - полета мысли или туманных чувств? Отчитываться ни перед кем не нужно. Все вопросы к себе. Но мысль должна плестить за ощущениями в тени, угадывая выход, как услужливый официант подносит вовремя перемену блюд.. Чувства позволят воображать не состоявшийся вполне натюрморт. Точные рекомендации о том, как следует делать натюрморт вероятно и мог бы кто-то дать, но не должен… Тут дело за вдохновением. Но приходит оно ко всем, кто его настойчиво ищет по разному и вызывается разным. Бальзак ставил босые ноги на холодный пол и ему писалось. Брамс сочинял музыку, начищая ваксой ботинки. У великих было множество оригинальнейших затей, с помощью которых им давалось воспарить. Но многим было достаточно и простого уединения. Ключ к озарению теряется где-то по дороге из детства.
Правильно расставить предметы… Все еще есть такие кадры советского и постсоветского полка писателей о фотографии, которые с натужным постоянством пишут «об как надо творить». Делается, если их послушать, все просто. Они разные и писали по-разному в разное время, но по существу одно и тоже. По ним, все, что нас окружает, построено по правилам. И сочинять надобно также, составляя целое из правильных элементов, как если бы мир состоял из этаких пазлов. Подразумевается, что если автор выучит правила композиции, то ему останется только взять пазл и уложить на отведенное ему место по правилами сочинения шедевров.
Полагаю, врут. И доказывать просто. Во-первых, еще ни один шедевр по правилам не был никем сделан. Но это еще не доказательство. Вот оно: пазлы нужно вырезать. Значит кто-то сначала должен создать изображение. Сначала кто-то должен многочувственно изобразить цельную неразрезанную картинку. Потом только ее и можно распотрошить на пазлы, то есть, на элементы из их правил композиций. Сначала сделать, потом разрезать... А собирать по готовому просто.
Юный композитор, на мой неумело поставленный вопрос, сказал мне, что «муза его не посещает». Но потом добавил «что ноты и звуки вертятся в голове, пока не получится мелодия». На вопрос о том, как он узнает, что мелодия готова, мне было сказано, что «это, когда уже все...»
Хорошая рекомендация. Бесхитростная. Требует, конечно, некоторых знаний художественного, некоторого умения возбуждать свои чувства, некоторых навыков выражать их своим ремеслом и полного растворения в композировании. Всего-то… Музыку, если неосторожно сравнить с любительской фотографией, по инструкции пользования фортепиано не создашь.

Еще и еще раз подчеркнем, что начинается натюрморт с ясного (для чувств) выбора предметов. Только уникальных сочетанием с другими, только ваших и желательно легко читаемых. Не тех предметов, чью форму увидели впервые, но из привычных, из близкого круга, до последней их частицы ощутимых, как те же яблоки, куда уж тут от них деться…
Пусть случится выбирать и на улице, пусть и в мусоре, но по-свойски согретых теплом узнавания. При этом желательно, чтобы они не волновали до пресыщения, не то весь натюрморт на себя утянут. Придумать такой список невозможно. Можно только почувствовать. Придумывая, конечно, чувствовать. Или вернее, чувствуя придумывать, или… В общем, как получится, только бы не ставить задачу, не планировать, не рассуждать… И отбрасывать многократно. Все получится само собой, когда весь мир сосредоточится в этих предметах без остатка. Или почти без остатка. В этом ничтожно малом «почти» останутся только кое-какие сомнения, неясные предчувствия, невыразимые предположения и большие надежды.
Выбрали… Расставляем.
Ни передним, ни средним, ни задним планам в натюрморте места нет. Все скучено в один план. Натюрморт или подтянуто упорядочен как франт или, наоборот, рыхловат. И только. Предметы необходимо сблизить, связать воедино. Попробуйте расставить все поодаль друг от друга по дальним углам изображения… и натюрморта нет.
Натюрморт - это «куча мала» из предметов, у которых, пусть даже в стиле «суета», есть свое определенное место в этом нагромождении. Автору бы только найти его… И только.
Как расставлять мы уже рассудили. Ничего определенного. Никаких конкретных рекомендаций по построению мизансцены. Они вредны, если и попадется где-то, ибо рекомендовать, тождественно пересказывать уже достигнутое. Натюрморт начинается тогда, когда автору проясняется какому из ощущений следовать, чтобы достигать. Или не так, но в любом варианте чувства будут всему головой.
Можно выстраивать натюрморт дома, в студии. Можно найти на улице. Прямо на земле… Идешь, вдруг видишь, лежит готовенький натюрморт. Предмет к предмету, ладный и выстроенный в одночасье, не в пример домашней работе. Гвоздь в стене, тень…или ржавый крючок, проволока… Просто попалось на глаза. Собрал воедино точкой съемки, рамкой… и сфотографировал. Ничем не хуже, чем такое же композировать на столе. Те же проблемы. Воображение работает иначе. Так и всегда все по-другому… Суета вокруг.
Создание натюрморта а-ля стрит более близко к тому, как внезапно озаряет зрителя в начале восприятия произведения. Автор, правда, и сам себя зритель. Его фантомы черновых набросков, дубли, так сказать, даются ему не в авторском, но в зрительском восприятии, несколько отстраненно от своего авторства. Сделает шаг и… отступает, рассматривает. На улице тоже, только и того, что все это на шаг быстрее… Там чаще нет нужды и трогать предметы. Компонует их автор собственным перемещением, выискивая точку съемки, перемещает рамку, «помещает» в натюрморт нужные предметы... Для фотографического метода и эстетического восприятия место съемки или постановки натюрмортной кучи, в студии, на улице ли, существенных различий не имеет.
5. Белый свет.
Если присмотреться, то в большинстве натюрмортов свет вяло и бессильно падает на предметы. Бывает даже ощущение немощи света. Кажется, порой, что уже за первым рядом предметов он слабеет. Иногда это очень даже выражено. Уличным натюрмортам, бывает, везет, как кажется, на выразительный свет. Но это и мешает подчас. Натюрморт все же склоняет к неспешному повествованию, к рассматриванию предметов без подсказок на первенство или особое значение.
В натюрморте свету, в большинстве случаев, назначена роль второго плана. Он не должен быть настойчиво интересен, чтобы не отвлекать от главного. Конечно, свет необходим, без него ничего ни увидеть, ни изобразить. Но того, чем он важен и незаменим, скажем в портрете, в натюрморте свет достигает редко. Если и случается такое, то это скорее исключение, чем правило.
В съемке портрета свет одно из главных средств для акцентуации черт формы, характера предмета. Светом в фотографии расставляют сильнейшие акценты. Но в натюрморте свет редко играет формой. …На первый, поверхностный взгляд.
Если взять многострадальный объект этой статьи – яблоко, то свету придется все же поработать, чтобы выявить его объем, пропорции, фактуру… Но кому интересно формировать светом характер яблока? Ухищрения освещения, может быть, и сформируют нечто, о чем можно сказать, как о характере яблока, но сущностное назначение предмета для натюрморта не изменят. В натюрморте предметы не имеют скрытых смыслов. Конечно, автор может задать литературный подтекст, но до зрителя они все равно не дойдут, если только автор не станет вечным гидом у своего произведения. Это будет «такой проект», но не фотография.

Предмет в натюрморте демонстративен. Форма его существо, характер, знаковость и притяжение. Все иносказания, если таковые задумываются автором, визуально помещаются им в форму предмета. А, так называемое «характерное» освещение, если его все же применяет автор, лишь будет способствовать появлению дополнительных оттенков в зрительском отношении к предмету той кучи. Авторской волей свету велено создавать обстоятельства для более полного раскрытия характера каждого предмета персонально. Но все предметы так же являются и фоном, средой раскрытия образа для каждого из них, как-бы-коммуникативным (через воображение) пространством его существования. Главного предмета в натюрморте нет, вернее, каждый из них, больше или меньше времени во времени восприятия, играет роль главного. Внимание зрителя, перемещаясь от одного к другому, попадет на кой-то из них, тот и становится главным на это мгновение. Потому светом автор должен обозначить характер натюрмортной «местности», которая представлена этой кучей. Всех вместе и каждый персонально. Свет же создаст и обстановку благоприятствования, дружескую атмосферу, как сказали бы про человеческую компанию, способствующую поочередному их рассматриванию.
А ведь свет изысканно и пронзительно характерное выразительное средство практически во всех изобразительных жанрах. Фотограф управляет им всегда. Хотя бы и на улице он изменяет характер освещения солнцем тем только, что сам перемещается. Управление светом методом перемещения точки съемки жестко совмещено с другим, казалось бы, не связанным процессом - выбором объекта съемки в быстром азартном стрите. Всплеск внимания автора к неожиданной и желанной для фотографирования ситуации обусловлено (не исключено, что и в первую очередь) направлением падения света на объект.
В натюрморте свету отведена задача преимущественно техническая – чтобы все видно было. В меньшей степени светом подчеркивают выразительность формы предметов и кучи в целом.
И, если уж затронули характер, то каков он может быть у предметов, в которых мы совсем не предполагаем видеть человека, даже при разыгравшемся воображении. В предмете нас интересует, конечно же, соотнесенность с человеком, место предмета в жизни человека. Всякий предмет нас привлекает (понимаем мы это или нет), прежде всего, его принадлежностью человеку, местом, отведенным ему в очеловеченной (антропоморфной) Вселенной, как мы себе ее представляем, поставив себя в центр мироздания.
Самолюбование за принадлежность к роду человеческому, гордыня за самобытие в нас невероятно сильны. Мы интересуемся всем, но по существу интересуемся только людьми, поскольку стремление к познанию мира в нас органически исходит из эгоизма существования. Проблемы есть только у людей, у всех остальных существ и сущностей только закономерности.
Мы воздвигли себя на вершину пирамиды абсолютных ценностей мироздания. В кажущемся альтруизме познания заложено ужасно эгоистическое начало.
Ну, и ладно с нами…Мы же о натюрморте. В нем, как и во всех делах человеческих, сконцентрировано часть существа нашего. В натюрморте, кажется, даже больше, чем в прочих. Для одухотворения натюрморта мы просто обязаны знать свои слабости и тонкие места. Ведь в действительности мы демонстрируем в натюрморте не предметы как таковые, а наши человеческие отношениям. Это могут видеть не все. И те, кто может, видят человеческое не во всяком натюрморте. Мы снимаем натюрморт как проекцию жизни. Какой-то части ее, конечно. Мы так реплицируем проекции форм на плоскость (говоря по-научному, что ведь тоже нашего разума дело), что в их конфигурациях, сочетаниях и прочих особенностях можно угадывать и те же человеческие отношения. Если склонны угадывать…
В предметах, если верить нашим ощущениям, заложено наше вообще-видение мира через узенькую щелочку удовольствий от обладания предметами. Там найдется место и узкоэгоистическим смыслам жизни и страхам одиночества... Но, какие бы чувства нами не обуревали в отношении обласканных нашим выбором предметов, натюрморт - он все же только натюрморт. А свет только условие и средство визуальной коммуникации и разрушитель страха тьмы.
Мне представляется, что из названных ранее авторов, именно Судек был ближе всего к управлению светом, приближая его к человеческой эмоциональной выразительности. Хотя уж точно и то, что и Судек светом не управлял. Он не передвигал осветителей или отражающих экранов и прочего рефлектирующего, но лишь дожидался состояний освещения. Что-то побуждает меня все же отнести это отношение к освешению к управлению светом, но пассивному. Перемещаются только фронтальная плоскость натюрморта (насколько это возможно) и, отдельно, точка съемки относительно натюрмортной «кучи».
Еще одна задача освещения состоит в том, чтобы осветить все самые глубокие закоулки предметной кучи и выявить как можно больше деталей в предметах натюрморта.
Обычно незаметные в повседневной суете детали дают возможность за функцией предмета распознать его самобытие, а затем, возможно и оживить его, проникнуть в предмет, за ширму эгоизма формы. Кто знает, не удастся ли ощутить сокровенное состояние вещи вне нас без менторского участия нашего эгоизма.

Конечно, не будет лучшей возможности преодолеть обыденное и проникнуть в сокровенное теней, как только воспользовавшись роскошным богатством рассеянного света. Солнце «организует» это довольно просто, посылая достаточно лучей направленного света к месту фотографирования, избегая ударить лучами непосредственно в натюрморт. Многократно преломившись от множества предметов, лучи проникают к самым затаившимся, спрятанным в куче предметам и проявляют их существование. В натюрморте второстепенных предметов нет, отчасти этому способствует и освещение. Инструменты светотехники такие, как лайт куб, бумажный туннель, всевозможные отражатели, рассеиватели позволяют успешно подражать тонкой работе солнца.
Свет выявляет предметы не только для того, чтобы дать зрителю возможность их рассматривать, чтобы каждый предмет мог участвовать в общем действе. В драматическом театре персонаж может общаться с другими, даже находясь в глубокой тени. В натюрморте свет образует, спроецированное зрительским воображением, коммуникативное пространство взаимодействия. В восприятии степени освещенности предметов демонстрируют иерархию и мистифицируют их взаимодействие. Ближе к истине следовало бы сказать «как бы коммуникативное пространство…» и «как бы демонстрируют…». Это происходит не в натюрморте, где только одни безмолвные и равнодушные предметы, и не в авторском общении с предметами, которые не способны ответить на страстные призывы автора,..если бы ему это вздумалось. Все это происходит в головах автора и многих зрителей. И поскольку мы уже знаем, человек воспринимает сигналы внешнего мира, создает в мышлении перцептивный образ этого мира. (от лат. perceptio – восприятие, обозначающее процесс и метод отражения объективного мира субъектом, человеком) И в этом очеловеченном мышлением образе мира, конечно есть и «коммуникативное пространство между предметами», и «демонстрация иерархии предметами». Игра воображения, «как бы»настоящее. И действительно настоящее…для перцептивного образа мира. Различие лишь в том, что воображение богаче впечатлениями о человечности окружающего мира, который в реальности бесчеловечен и равнодушен. Но что мы выбираем? Холодную реальность или теплые ощущения человеческих прикосновений в общении спредметами?
Впечатление зрителя, созданные в мышлении и ищущие соответствий своим фантазиям в реальности, движутся по дороге обозначенной акцентами. Акцент…(от лат. accentus — ударение. Прием, с помощью которого можно обратить внимание на тот или иной объект или его часть) Предмет, отражающий больше (или меньше…) света, чем прочие, мимо воли становится акцентом. Акценты могут быть также построены на взаиморасположении, ракурсе, локальных контрастах, цветовых и тональных соотношениях, на функциональных соответствиях и так далее… Акценты могут активно притягивать внимание зрителя или, наоборот, только обозначать возможные пути продолжения рассматривания. В подсознании зрителей выстраивается невольная иерархия или, скорее, иерархии очередности восприятия (причина их в авторской воле…) и значимостей предметов в соответствии с силой акцентов.
Смыслы значений связей между акцентами вольно додумываются зрителем. Авторское намерение (выделение предметы или его части) создает посыл вниманию зрителя, но в остальном зритель свободен от авторского влияния. Акцентами автор назначает и связывает участки изображения, предметы, элементы предметов.
Зритель непременно «раскрасит» образ восприятия в свои «цвета», отличающиеся от авторского осмысления. У зрителя могут появиться собственные догадки о важности того или иного акцента, в том числе, и противоречащие намерениям автора. Воспринимая произведение автора, зритель получит удовольствие от того в нем, что сам же и выберет для этого. И как бы много автор не расставлял акцентов, готовил ловушки для зрительского восприятия, интерпретаций развития авторского спектакля в воображении зрителя будет больше,.. если автор вообще сможет разбудить воображение зрителя.
Таинственные силы, владеющие нами, позволяют нам любоваться формой изысканных пустяков. Мы любим вещи, разбрасываем их, забываем и теряем в сутолоке жизни, но при этом бережно храним, держим под рукой и помним о них, несмотря на обстоятельства.
Нам трудно делать выбор между вечным и ускользающим настоящим, поскольку чувства наши не имеют меры и склонны к легкомысленным увлечениям поверхностными удовольствиями. Потому натюрморт так сложен. Именно в него человек смотрится как в зеркало, пытаясь разглядеть через сущность предметов свою. А свет…Свет позволяет рассмотреть натюрморт. Тем, кто не поддается напору эстетике массового потребительского вкуса и управляет физиологическими удовольствиями, свет позволяет еще и погружаться в ощущения забавных удовольствий созерцания настоящего, фантазий изысканных переживаний.
6. Пустяки.
Фон. Малосущественная, казалось бы, деталь натюрморта. Да, что там, натюрморт... Художники частенько закрашивают краской, незаполненные изображением участки полотна. А бывает, что заполняют пустоты пустыми, невнятными фигурами.
Прохладное отношение к фону в творчестве мастеров было замечено давно. Уж что может быть более соответствовать человеческому, как равнодушие к безынтересным занятиям. Марк Твен создал этому символический памятник в образе Тома Сойера, которому было поручено покрасить забор. Сэр Джошуа Рейнольдс английский художник и теоретик искусства, намного раньше обвинял нерадивых живописцев, которые, завершив главную часть полотна, записывали не важные уже места «фигурами, взятыми напрокат». Он имел в виду закрашивание фона, интерес к которому у них был не больше, чем у Тома к тетушкиному забору. Ведь фоном может служить не только задняя плоскость или нечто похожее на нее, но даже и дали с фигурами, безучастными к главному действу... и прочее тому подобное.
Фон никогда и не нуждался в том, чтобы казаться лучше, чем он есть.
Фон (fundus лат.) переводится как дно, основание. Уж на что меньше всего обращают внимания, лишь бы было. Где бы не использовали слово "фон", им обозначают нечто маловыразительное, малосущественное, второстепенное, служебное.

Может быть, Сэр Рейнольдс был слишком строг, ругая живописцев за фоновые замалевки. В конце концов, этому способствует физиология нашего зрения. Маленькое пятно ясного резкого распознавания перемещается по объекту, повинуясь направлению взгляда, и многократно исследует контуры объектов. При этом совсем мало зрение уделяет внимания не существенным частям изображения, в том числе и фону. Мышление, нужно заметить, само определяет, что ему более тщательно рассматривать, многократно исследуя форму, а по чему скользнуть мимоходом. Интересно было бы узнать, что подсознание определяет как фон, а что ему существенная часть в наших фотографиях…
Но в своем сознании мы сами себе хозяева и можем поставить фон на место.
Автор, не зная, что там себе решает его подсознание (но прислушаться к чувствам, выражающим «мнение» подсознания всегда не лишне…), сам выбирает то, что у него будет служить фоном. Вполне вероятно, что возникнет интересное взаимодействие натюрморта, той кучи предметов, с задником мизансцены, фоном. Натюрморт начинается с главного, со структуры взаиморасположения предметов. Но он может ею и завершиться, не преодолев безразличие фона. Ведь в изображении ничего не существенного быть не может. Все изображенное создает впечатление.
Фон существенен и для восприятии зрителя. В сценографии театра, например, фон каких-нибудь царских хором из фанеры, намалеванных сокровищ и аляповатых тряпичных украшений из зрительного зала кажется вполне роскошным. Только кажется, но и этого достаточно. Необходимость действия в фоне позволяет очаровывать зрителя бутафорией богатства. Сюжет прибавляет ощущений реальности в условность фона. Зритель верит, увлекаясь сюжетом, но не ошибается доверчиво.
Полагаю, связь фона с «кучей» предметов должна быть ненавязчиво обоснована.

7. Окончание.
Интересно, что было бы лучше – отдаться во власть подсознания или осознанно конструировать натюрморт. Или где-то между ними находится золотая середина… Опыт привлекает постоянством. Вдохновение капризно, возникает и исчезает непредсказуемо. Тем не менее, сознание действует, а подсознание господствует в чувствующем разуме. Много странного, таинственного и загадочного в этом...
Есть желание выявить источник творчества, его побудительные мотивы. Хочется управлять вдохновением, вызывая его всякий раз, когда понадобится.
Кажется, что причина причин - концентрация воображения при погружении в себя. И, наконец, каким способом подсказать подсознанию, что уже пора. Бальзак, например, ставил босые ноги на холодный пол и…ему писалось. Неизвестно, как ему это пришло, с чего началось. Может быть, случайно повторились ощущения холодного пола и тут же явилось вдохновение. В подсознании вполне могла закрепиться причинная связь инсайда с прохладой.
Десятки лет одно за другим поколения детей рисуют в школах яблоко под руководством тысяч педагогов. Эти старания не приближают их к натюрморту ни на шаг. Знаменитый ТРИЗ не смог создать простую схему инициализации творчества. Им не удалось усовершенствовать художественное творчество до перечня простых действий.
Никому не удалось с помощью правил приблизиться к искусству. То ли правила не годные, то ли по-другому все это.
Для создания натюрморта нужно употребить осмысленные действия. Но желание их совершить возникает безотчетно. Безупречную ясность логики в производстве произведений искусстве портят неопределенность красоты, безответственные чувства и неуправляемая интуиция. Состояние наивысшего проявления интуиции, называют инсайтом. (от англ. insight — понимание, озарение, внезапная догадка) Этот термин обозначает событие в мышления, когда внезапно и необъяснимо логикой проясняется существо явлений. Это состояние невозможно измерить инструментально или препарировать мудростью.
Фотография, независимо от жанра, начинается с отбора предметов. Если это происходит в стрите, то отбор настолько быстротечен, что более уместно звучало бы слово констатация. Отбор сводится, в конечном итоге, к необъяснимому ощущению гармонии в расстановке предметов.
Успех фотографии определяют, с одной стороны, чувства автора, не вмещающиеся в логический футляр намерений, а с другой – зрительские ощущения, возбужденные мастерством автора. Между ними лишь нагромождение предметов. Всего лишь три фактора создают искусство фотографии.
Съемка упорядоченной «кучи» предметов в деле натюрморта почти завершает фотографию, можно сказать, завершает концептуально. После нажатия на кнопку спуска затвора последующие воздействия кучу существенно не изменят. Разве что обработками добавят интонаций в связи предметов, оттенки, уберут лишнее, добавят недостающего…
Фотограф «как бы» движется в мироздании по самобытной траектории. Мир «как бы» представляет взгляду все-в-нем-происходящее. Автор «как бы» не выбирает, только наблюдает. Они соприкасаются и нечто происходит.
Ну, не предметы нас выбирают… Но кто знает, что готовит нам подсознание, каким чувством вызовет нашу волю, какой страстью зажжет ее.
Мы желаем видеть Мир, как он есть, но так устроены, что не можем видеть его таким, как он есть. Мешают наши пристрастия, знания, вера, предубеждения, культура. Мы еще не узнали Мир, но они уже объяснили нам его, заполнили все пустоты незнания об истине мира гипотезами, знаниями частей… Порой прорываемся, преодолеваем свое субъективное и образ Мира в нас еще на штрих становится ближе к истинному Миру.
Это все для фотографии. Мир вещей и внутренний мир человека движутся независимо. Их может связать только воля делающего выбор, и то, что исподволь направляет его волю.
Отбор предметов - задача фотографии не только для натюрморта. Выбор несколько напоминает головоломку. Там каждая деталь должна занять строго отведенное ей место. Но в натюрморте нет правильных сочетаний и заданных мест для предметов. В натюрморт, как и в стрите, и в портрете, у предметов много мест, вполне согласующихся с другими предметами и с настроением. Озарение вдруг, неожиданно, бездоказательно укажет на единственный выбор.
Натюрморт в воображении, что театр, а предметы – персонажи. Кажется, просто расписать и назначить роли, продумать взаимодействия и сконструировать мизансцены… Спектакль будет сыгран мгновенно, в одном акте, в одном явлении без единой реплики.
Не получится… Прописать роли предметам не получится. У каждого из них свое, давно приобретенное амплуа и навсегда заданная роль. Когда их принуждают отступить от нее, они фальшивят, умничают, их близость с нами ослабевает, как и доверие, и привлекательность. И зритель это чувствует. С диалогами, вернее, с тем, что можно назвать условным диалогом в составлении предметов, думается, будет проще. Мы сами же и перемещаем их, связываем их между собой взаиморасположением. Но как назначить предметам роли, как заставить их играть назначенную роль, если они всего только и «научены» нами играть одну, свою особенную и довольно интимную роль полезной вещи или даже дружески полезной…
Начиная натюрморт, готовьтесь чувственно сочинять пьесу без слов...
С не меньшем волнением, чем от реальности, мы воспринимаем всякую небывальщину в произведениях искусства. И все потому, что в фантазиях наше подсознание искусно увязывает нереальное с реальным. Фантазии всегда конструируются из реальных элементов. Небывалые комбинации вполне обыкновенных реалий. Воображение оживляет их с легкостью, с уверенностью, которую заимствует из реального существования реальных элементов, которые использованы для фантастического образа. Реальность деталей и свойств обязательное условие нереальных образов фантазий.

Это все про натюрморт… Автор (и зритель) безотчетно связывает предметы с забытыми причинами и событиями своей жизни. Связывает, потому что узнает. Он собирает их в «кучу» и вместе с ними разыгрывает их реальность. Фотографирует, например. Связи назначает подсознание человека. Среди них общезначимые, есть и очень личные. Как нож. Для всех он связан с необходимостью резать. Но у кого-то закрепилось с его формой еще одно мелкое свойствишко. И засело оно, до поры, до времени, в воспоминании о детской игре «В землю».
(Сначала рисуют на земле круг. Это общая «Земля». Затем ее делят на сегменты по количеству участников. Каждый выбирает «Свою землю». Потом начинается игра. Каждый игрок с высоты своего роста старается метнуть нож так, чтобы он воткнулся в землю соперника. Бросают по очереди, пока нож не шмякнется плашмя. Тогда считается, что игрок «стратил» и очередь переходит к другому. Если все же нож воткнулся, в его плоскости игрок чертит новую границу по «земле» пораженного соперника и добавляет к своей земле завоеванную добычу… И так до той поры, пока у кого-то не останется участок, меньше того, чтобы участник игры мог стать на нем ногой для метания ножа…)
Я играл в эту игру. Мой опыт хранит такое свойство ножа. Я о нем не вспоминаю. Но подсознание «знает» о нем всегда. Оно сохраняет память об этом нехарактерном свойстве так же, как и многие другие общественно значимые и другие мои сокровенно персональные свойства ножа.
Предметы одухотворяются жизненностью в нашем воображении именно своими свойствами для каждого из нас отдельно своими или для всех одинаково. И если предмету не достает ощущения жизни в нашем воображении, так вот это уж точно не предмет нашего натюрморта. Если только ему не назначена именно такая роль.
Есть еще и настроение. Оно добавляет оттенки значениям предметов. Сочетание предметов (кто знает математику, понимает какое невообразимое умножение вариантов связано с сочетаниями) еще больше разнообразят воображаемые характеры предметов и делают выбор еще более трудным и ответственным.
Спектакль натюрморта разыгрывают свойства предметов. Впрочем, это имеет место не только в натюрморте, но мы-то именно о нем. Свойства делают предметам «характеры», «роли», «поведение»... Чувственное «повествование» непоследовательно, спонтанно и порой может начинаться со случайного выбранного места, как книга, открытая с середины. Наши переживания увязывают кучу предметов в единое поле их свойств. Чувственное напряжение, заложенное в авторском отношении к предметам, делает сюжет натюрморта интересным…или натянутым, искусственным, если связь предметов прослеживается с трудом.
Не знаю, может быть кто-то сможет слышать разговор предметов, пусть только в собственном воображении. Я же просто прислушиваюсь к своим чувствам. Пытаюсь не упустить их подсказки. Логику и здравые рассуждения подпускаю с большой осторожностью. И главенствовать не позволяю ни в отборе, ни в принятии решений, никогда. Это отношение сформировалось по следам неудач. Виновниками были мое невежество и время. Я начинал заниматься фотографией во времена идеологии документальности искусства. Для пропаганды документальность была очень удобна. Разобраться в несоответствии требования документальности искусству, «правдивости», как говорили партийные идеологи, воспротивиться и выбраться получилось не сразу.
Логика, естественно, присутствует в творческом процессе Вопрос в том, в каких вопросах творчества художник подчиняется логике, а в каких чувствам. Логика успешна в конкретных знаниях. Сюда же попадают и ложные, которые мы по разным причинам считаем истинными. Фотограф управляет инструментами на основе знаний. Логика позволяет ему не выйти из коридора допустимых отклонений и получить качественный результат. Те, кто допускает логику в управление чувствами, создают прикладные вещи. Логика направляет по предсказуемому пути. Чувства открывают возможность невозможного. И в натюрморте также…
2011 © Александр Фельдман, фотографии автора
Что ещё можно сделать:
Обсудить статью на Форуме >>>
Написать письмо автору >>>
[ Адрес этой статьи в Интернет: http://photo-element.ru/philosophy/nature-morte/nature-morte.html ]
|