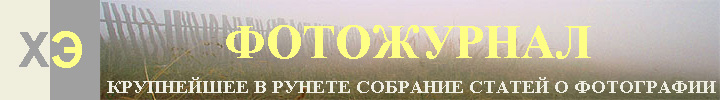МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЯ А.А.СЛЮСАРЕВА:
ЗНАКИ И ПРИЗНАКИ
(к постановке проблемы)
|
|
Владислав АКСЕНОВ,
кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник МГТУ-МИРЭА
|
Содержание:
1. О методе.
2. А.А.Слюсарев как абстракционист и не очень.
3. Между конструктивизмом и «прямой фотографией».
4. Экзистенционально-гуманистическое измерение метафизики.
5. Свет как метафизический объект.
6. Денотативная бесшумность метафизики.
7. Вместо заключения или Homo Faber vs. Homo Ludens.

Александр Слюсарев. Автопортрет. 1981 г.
Как это часто бывает, смерть художника рождает волну интереса к его творчеству, приводит к желанию осмысления оставшегося наследия. Однако в отношении недавно ушедшего Александра Александровича Слюсарева (1944 – 2010) ситуация несколько иная: уже при жизни вокруг него сформировалась фотографическая школа, которую мэтр называл метафизической. Хотя словосочетание «метафизическая фотография» употреблялось и раньше, именно А.А.Слюсарев придал ему концептуальный характер, последовательно развивая данное понятие как в собственных работах, так и прививая к нему интерес со стороны своих учеников. Не желая ограничивать единомышленников заданными рамками направления (как мы увидим в дальнейшем, сам автор работал вне какого-то определенного жанра, стремился к раздвижению любых границ), А.А.Слюсарев трактовал понятие «метафизическая фотография» достаточно широко, иногда подменяя его терминами «аналитическая фотография» или даже «сюрреалистическая». В результате, дебаты о природе метафизики, творческие поиски границ этого направления уже не одно десятилетие продолжаются в печати, во время частных встреч, на просторах интернета. Именно благодаря освоению Сан Санычем (так по-свойски называли его друзья и соратники) Живого Журнала удалось не только популяризовать метафизическую фотографию, но и несколько повысить уровень визуальной культуры соотечественников, для которых с советских времен фотография не являлась самостоятельным видом изобразительного искусства, имела исключительно прикладное значение. Сегодня на различных фотографических сайтах, в социальных сетях существуют группы метафизической фотографии, занимающиеся осмыслением и развитием идей А.А.Слюсарева.
О методе.
В данном исследовании речь пойдет не только о теоретических вопросах (изобразительных средствах и приемах, использовавшихся фотографом, подходах к сущности фотографии), но и о вопросах прикладного характера, связанных с определением понятия «метафизическая фотография».
Прежде всего, мы откажемся от изучения природы «метафизической фотографии» через сам термин «метафизика». Во-первых, потому что в философии от античности до постмодернизма определение метафизики неоднократно менялось. Во-вторых, потому что одним из методов метафизики как учении о бытии в ХХ в стала феноменологическая редукция, рефлексия субъекта об объекте, пример которой представлен в рассуждениях немецкого философа Мартина Хайдеггера: «Что такое метафизика? Вопрос будит ожидание, что пойдет разговор о метафизике. Мы от него воздержимся. Вместо этого разберем определенный метафизический вопрос. Тем самым мы сумеем, очевидно, перенестись непосредственно в метафизику. Только так мы дадим ей настоящую возможность представить саму себя» [27]. Взяв на вооружение метод Хайдеггера, мы воздержимся от разговора о метафизической фотографии вообще, но начнем разговор о фотографиях Слюсарева, которые сам автор считал метафизическими и в которых, таким образом, мы обнаружим подлинную слюсаревскую метафизику.
В отношении работ А.А.Слюсарева будет применен метод сравнительно-типологического анализа, который позволит не только определить место творческого наследия нашего соотечественника в мировой фотографии, но и выявить общие сходства и отличия в сравнении с основными направлениями изобразительного искусства ХХ в. К настоящему времени в ряде статей прослеживается тенденция сведения слюсаревской метафизики к фотоабстракционизму. Это вытекает из формального сходства работ Слюсарева с фотографиями, скажем, Зискинда, Ман Рея, однако данный подход не учитывает их отличительных особенностей, позволяющих говорить о специфике работ российского автора, их особом месте в истории фотоформализма. Кроме того, важно обратиться к теоретической базе, сохранившимся текстам, в которых отразились авторские позиции по существу метафизической фотографии.
Близкий подход к анализу наследия Слюсарева недавно использовался Ириной Чмыревой в лекции, прочитанной в Ростове-на-Дону. Исследовательница, сопоставив работы Слюсарева с фотографиями известных мастеров формализма, сосредоточила внимание на особенностях композиционного построения, сделав вывод о стремлении российского автора выйти за пределы плоскости бумаги, создать эффект выпуклой перспективы [19]. Вместе с тем, в данной работе представляется более целесообразным смещение акцента с собственно изобразительных средств на анализ форм и их функций в структуре изображения, что должно помочь в осознании концепции «вещественности», «физичности» предметов в процессе фотосъемки и ее результатах, отражающихся в приставке «мета».
С этой целью помимо историко-сравнительного и типологического методов анализа будет применен и семиотический подход, позволяющий выделить различные знаковые уровни вещи в фотографиях Слюсарева. Это необходимо сделать для того, чтобы понять место фотографического наследия нашего современника среди таких направлений искусства, как символизм, абстракционизм, конструктивизм и др.
Так как данное исследование не претендует на окончательное полное познание знаковой системы метафизической фотографии, семиотический анализ будет проведен по упрощенной схеме знаков Ч.Пирса, в которой выделим знак по отношению к самому себе (так называемая чистая форма, характерная для абстракционизма), иконический знак по отношению к объекту (реалистическое подобие фотографируемого предмета), индексальный знак по отношению к объекту (наделение знака свойствами, не характерными для его объекта), символический знак по отношению к объекту (символизм) и знак по отношению к интерпретатору (позволяет отделить собственно знак на изображении от его значения-образа в сознании зрителя или автора произведения) [18].
Учитывая огромный массив оставшихся после Слюсарева фотографий, который едва ли можно переработать сейчас, когда предпринимаются первые шаги к переосмыслению наследия фотографа, а также учитывая постоянные эксперименты Слюсарева, вероятно до конца не усвоенные им самим, кажется оправданным ограничение материала ставшими классическими еще при жизни мэтра черно-белыми «квадратами» 1970-80-х гг, в которых и были заложены основы метафизической фотографии. Публикуемые фотографии были получены из открытых интернет-источников, в частности, с сайтов sliussarev.ru и photographer.ru. Так же использовались материалы с сайта photoisland.net.
А.А.Слюсарев как абстракционист и не очень.
В большинстве работ, посвященных творчеству Слюсарева, когда встает вопрос об его идентификации, упоминается термин абстракционизм. Более того, В.Стигнеев даже пальму первенства в метафизической фотографии отдает американскому абстракционисту-экспрессионисту Аарону Зискинду, чьи работы выставлялись в 1970-х гг в СССР в рамках проекта «Фотография в США» [9]. Правда, сам Слюсарев не упоминал Зискинда в числе фотографов, оказавших на него влияние (были упомянуты Эдвард Уестон, Ирвинг Пенн, Арнольд Ньюман, Ричард Аведон, Иржи Еничек, Карол Каллаи, Клиффорд Сайдлинг, Йозеф Судек [20]). С другой стороны, одноплоскостные фотографии американского абстракциониста теоретически близки разрабатываемой Слюсаревым концепции «плоского пейзажа» - лишенного линейной, диагональной перспективы. Но на практике все оказывается сложнее - даже в плоском пейзаже Слюсарев не замыкается на созерцании одной только фактуры, его интересуют нюансы игры света, отражений и рефлексов, благодаря чему он умудряется на плоскости отобразить многомерность окружающего пространства.

|

|
|
А.Зискинд. 1957
|
А.Слюсарев. Плоский пейзаж. 1989
|
Плоскость Слюсареву нужна для того, чтобы раздвигать ее границы, Зискинд в соответствии с традицией абстракционизма располагал на ней пятна. Вероятно, если сравнивать Слюсарева с классиками формализма, то ближе других к нему окажется американец Дж.Сзарковски, для которого фактура не являлась единственным объектом, достойным внимания, но обыгрывалась во взаимодействии разных плоскостей:

Дж.Сзарковски.
Тем не менее, прежде чем поставить под сомнение тезис об абстракционизме слюсаревской метафизики, оправдаем, наоборот, обоснованность восприятия работ нашего соотечественника в контексте абстрактного искусства.
Изучая особенности композиции слюсаревских квадратов, И.Чмырева говорит об особой роли вертикальных линий, делящих кадр и решающих задачи композиционного равновесия. Причем эти линии необязательно представлены физическими предметами, как, скажем, столбами или деревьями, они могут создаваться границами светотени, углами интерьера. Эти линии, не только вертикальные, но и горизонтальные, диагональные, создают некую первичную структуру, формируют плоскости, в которых фотограф располагает вещи. Этот прием изучался голландским абстракционистом Питом Мондрианом и лег в основу теории неопластицизма – создания чистой пластической реальности с помощью минимального набора средств (прямых линий, голых плоскостей и прямоугольников «базовых цветов» (красный, жёлтый, синий) на нейтральном фоне). Сравнение работ голландского абстракциониста и российского «метафизика» обнаруживает поразительное структурное сходство:
Встречаются среди слюсаревских «квадратов» и композиции русского супрематизма:

|

|
|
К.Малевич
|
А.Слюсарев
|

|

|
|
И.Клиун
|
А.Слюсарев
|
Как неопластицизм, так и супрематизм изучали вопросы композиционной гармонии, однако в супрематизме акцент делался на уравновешивании сложных ассиметрических композиций. Как видим, Слюсареву были близки подобные формалистические исследования.
Вместе с тем, есть важный нюанс, который делает композиционные неопластические и супрематические изыски Слюсарева второстепенными: абстрактная композиция используется фотографом не более как способ организации предметов на плоскости. При этом сами предметы не теряют свою иконичность, в то время как в абстракции нет иконических подобий, замененных отвлеченными, чистыми формами – знаками самих себя. Все знаки Слюсарева остаются знаками по отношению к объекту. Рассмотрим слюсаревский квадрат, который дан в паре с Малевичем. Темная трапеция в левом нижнем углу (далее – ЛНУ), помещенная на нейтральном фоне, разрезана линий света. Однако при внимательном рассмотрении оказывается, что нейтральный фон это оклеенная обоями с растительным орнаментом стена, а трапеция имеет фактуру дерева, вероятно, спинка кровати. Рисунок обоев играет важную роль, возвращая абстрактным с первого взгляда формам их иконическую суть. Так же весьма любопытным представляется сочетание геометрического орнамента первичной структуры фотографии с цветочным орнаментом стены-фона, автор как будто иронизирует над поиском чистых форм, возвращая им предметность с помощью причудливого узора цветов.
При этом мировой фотографии известны чистые, абстрактные формы, не уступающие по своей отвлеченности живописным пятнам. В арсенале фотографа достаточно средств для «убийства» фактуры, объема и сведения всех элементов композиции к одной плоскости. Распространенный в абстрактной фотографии прием – фотограмма (прямое экспонирование фотобумаги или пленки без использования фотоаппарата). Сравнение с известными фотограммами работ Слюсарева показывает, что едва ли поиск чистых, абстрактных форм, беспредметности, было тем, что в первую очередь волновало автора.

|

|
|
К.Шад. 1919.
|
Л. Мохой-Надь. 1926.
|

|

|
|
И.Хоффман. 1931.
|
Ман Рей. 1931.
|
По форме, композиции пятен и даже по знакам-символам не сложно подобрать работам Слюсарева близкие пары из фотографий или фотограмм абстракционистов. Так, например, общей окажется тема рук на работах Мохой-Надя, Ман Рея и нашего соотечественника. Однако, в отличие от абстракционистов и символистов, Слюсарев не создавал искусственные композиции, те или иные знаки интересны ему были постольку, поскольку они являлись частью окружающего его мира, поэтому для художника было важно включить их в пространство места. Ветки кустарника на фотографии, представленной ниже, несмотря на элементы абстракции, сохраняли реалистическую вещественность места, в то время как на фотограмме Ман Рея пространственное положение предметов не очевидно.

|

|
|
Ман Рей
|
А.Слюсарев
|
В близком жанре беспредметной абстрактной фотографии работали и современники-соотечественники Слюсарева, например, И.Макаревич, А.Чежин, Е.Юфит.

|

|
|
А.Чежин. 1988.
|
Е.Юфит. 2000-е.
|
Более «фотографический» способ получения абстрактной композиции избрали для себя в 1960-70-х гг Франциско Инфанте и Нонна Горюнова, которые, в отличие от «плоскостной абстракции», работали и с пространством. По сути, они устраивали абстрактные инсталляции, которые затем запечатлевали на фотопленку.

|

|
|
Ф. Инфанте, Н. Горюнова. 1968.
|
Ф. Инфанте, Н. Горюнова. 1977.
|

|

|
|
Ф. Инфанте, Н. Горюнова. 1976.
|
Ф. Инфанте, Н. Горюнова. 1977.
|
За исключением следующей работы 1983 г. Инфанте и Горюновой супрематическая тематика не находит прямых аналогий с творчеством Слюсарева того же времени. Последняя, наоборот, близка творчеству Слюсарева, особенно его «цветного» периода.

|

|
|
Ф. Инфанте, Н. Горюнова. 1983.
|
А.Слюсарев. 1991.
|
Тем не менее, не будем забывать о том, что данные работы являются инсталляциями, в которых не участвуют обычные предметы повседневного окружения человека, в них используются специально изготовленные реквизиты, Слюсарев же неоднократно повторял: «Стоит заметить, что я снимаю характерные (обычные) вещи и тащусь от них» [17]. Сама фотография в работах Инфанте и Горюновой кажется вторичной по отношению к устроенной инсталляции, она лишь как напоминание о прошедшем творческом акте. Слюсарева интересовали чисто супрематические построения, иногда с эшеровскими эффектами «невозможной геометрии» тогда, когда они обнаруживались в самой повседневности. В качестве примера и некоторого отступления от заранее оговоренного материала приведем позднюю работу автора, в которой дорожная разметка вдруг отклоняется от собственной геометрии, отражаясь в стеклянной перегородке:

А.Слюсарев. 2006.
Эффект, искусственно созданный Инфанте и Горюновой в инсталляции 1977 г с помощью зеркала и палки на снегу, был обнаружен Слюсаревым в окружающей повседневной реальности.
Правда, известная постановочность не была чужда и слюсаревским натюрмортам. В серии «Кубики» он использует простые геометрические формы, образуя с их помощью композиции, близкие супрематическим.

А.Слюсарев. Кубики.1983.
Однако и здесь Слюсарев по-прежнему работает с подручными средствами, теми предметами, которые составляют окружение человека, сохраняя иконичность их форм.
Таким образом, абстракционизм, формальным сущностным признаком которого выступает знак по отношению к самому себе, беспредметная форма, не характерен для метафизики Слюсарева. Фотографа интересует не только узнаваемый предмет, но и его фактура, мелкие детали, вносящие в формальные композиционные построения некую интригу. Мондриановская неопластическая структура или супрематическая композиция Малевича играли роль не более чем каркаса, к которому Слюсарев прикреплял интересовавшие его формы, конструируя, тем самым, новое пространство.
Между конструктивизмом и «прямой фотографией».
Конструктивистский подход проявлялся в творчестве Слюсарева хотя бы в том, что он большое внимание уделял организации пространства. «Плоский пейзаж» был всего лишь одним из направлений его экспериментов, правда и в нем присутствовали отдельные признаки конструктивизма, как, например, тектоничность (выражение внутренней структуры, фактуры материала в форме предмета). Игра с фактурами и формами характерна для многих работ автора. На следующей паре фотографий слева из тонкого полупрозрачного целлофана построена воздушная, хрупкая фигура, как бы рождающаяся из подобной фактуры клеенки на столе, а на правой совмещение нескольких объектов создает новую монолитную форму (монолитность как другая черта конструктивизма).

|

|
|
А.Слюсарев
|
А.Слюсарев
|
Разговор о конструктивистской традиции в творчестве Слюсарева нельзя вести без сравнения его работ с фотографиями классика фотоконструктивизма Александра Родченко. Помимо схожих концептуальных задач их так же сближала и работа с одними и теми же темами. Вот, например, как Слюсарев переосмыслил родченковскую тему радиостолбов:

|

|
|
А.Родченко. 1929.
|
А.Слюсарев. 1976.
|
Крест, образованный крепящимися к столбу проводами у Родченко, на фотографии Слюсарева сконструирован пересечением тропинки и акведука, центр которого жестко привязан к вертикали столба. Здесь, помимо обыгрывания схожей геометрической формы, создана пространственная иллюзия: крест воспринимается зрителем в той же плоскости, в которой расположен и столб. Собственно близкая иллюзия есть и у Родченко: представленный в линейной перспективе столб превращается в плоский треугольник, - однако у Слюсарева пространство трансформируется посредством связи разноудаленных друг от друга объектов. Таким образом, Слюсарева интересует не столько геометрическая форма сама по себе, сколько создание нового измерения, в котором предметы, расположенные на разных планах, оказываются в то же время в одной плоскости. В этом также можно усмотреть аллюзии эшеровской «невозможной геометрии».
Две другие работы посвящены сопоставлению простых одинаковых геометрических форм.

|

|
|
А.Родченко. Бокалы. 1926.
|
А.Слюсарев. Стекло. 1981.
|
У Родченко выражен эффект взаимодействия двух окружностей как шестерен, которые на самом деле расположены в разных плоскостях, у Слюсарева - взаимодействие черного и белого квадратов. Любопытно, что изначально обоих авторов интересовали рефлексы света, проходящего через стекло. Фотография Родченко относится к серии «Свет и стекло», работа Слюсарева называется «Стекло». Очевидно, что в итоге ни у одного, ни у другого свет и стекло не стали самостоятельной, «вещественной» ценностью данных работ, авторы ушли в изучение форм, возникших постфактум. Более того, если с фотографии Слюсарева убрать банку с водой, то есть собственно «стекло», вынесенное в название, то взаимоотношение двух квадратов останется, но вот фотография, при этом, исчезнет. Хотя банка с водой с точки зрения конструктивизма никакой роли не играет и сам Родченко, осмелюсь предположить, не стал бы ее включать в данную композицию, для Слюсарева она важный элемент структуры работы: именно вокруг банки разыгрывается сюжет в виде игры света и тени и точно так же, как тень от табуретки равна по композиционной значимости самой табуретке, так же и рефлекс банки на ней не менее важен самой банки. Поэтому-то последнюю Слюсарев и не стал целиком включать в кадр, сделав акцент на рефлексе.
Таким образом, Родченко в меньшей степени, чем Слюсарев, интересуется предметами. Они для конструктивизма не более чем кубики, из которых ваяются новые монолитные формы. Отношение Слюсарева к вещам, как мы увидим чуть ниже, личное, местами даже трогательное.
В.Стигнеев и В.Михалкович в «Поэтике фотографии» рассматривают творчество А.А.Слюсарева в контексте появившегося в 1920-е годы в Германии направления «новая вещественность» (Neue Sachlichkeit, new objectivity) [8. C.25.]. Один из ее основателей Альберт Ренгер-Патч, выступая против пикториализма в фотографии, писал: «Оставим искусство художникам и попытаемся с помощью фотографических средств создавать изображения, которые могли бы защитить свое достоинство чисто фотографическими качествами, не одолжаясь у искусства». Работа с формами предметов, их фактурой стала определяющей в этом направлении, позже перейдя в принципы американской Группы f/64(А.Адамс, Э.Уестон), сформулировавшей понятие «straight photography» (прямая, непосредственная фотография).

|

|
|
А.Ренгер-Патч.
|
А.Ренгер-Патч.
|

|

|
|
А.Адамс.
|
Э.Уестон.
|
Действительно, с точки зрения отображения вещи, работы А. Ренгер-Патча чуть ближе слюсаревским, чем у Родченко. Так же и американцы Адамс и Уестон своим вниманием к фактуре сопоставимы с «квадратами» российского фотографа. Ансель Адамс и Эдвард Уестон нередко добиваются пространственных иллюзий, совмещая планы, с чем экспериментировал и Слюсарев. В следующей работе Адамса хорошо заметно, что светлая плоскость дверей и фронтальной стены церкви, виднеющихся в проеме, кажутся расположенными в иной плоскости, чем эта же фронтальная стена церкви над проемом, за счет разной тональности.

А.Адамс. Церковь, Тао-Пуэбло.
Таким образом, принципы «новой вещественности» и «прямой фотографии» находят отражение в работах А.Слюсарева, так же, впрочем, как и конструктивистские построения. Очередной метафизической характеристикой можно назвать иконическую предметность, которая, однако, не обладает самодостаточностью в фотографии и зачастую отходит на второй план перед пространственными играми.
Если попытаться идентифицировать предметно-пространственные изыски Слюсарева в контексте тех или иных фототрадиций, то, наверное, ближайшими к его творчеству окажутся работы классика шведской фотографии Кристера Стрёмхольма:

|

|
|
К.Стрёмхольм
|
А.Слюсарев
|

|

|
|
К.Стрёмхольм
|
А.Слюсарев
|

|

|
|
К.Стрёмхольм
|
А.Слюсарев
|
Предметы в работах шведского и российского художника (предметностью в формалистических композициях обладают также свет и тени) не просто даны в том или ином интерьере, именно они «лепят» пространство, наполняют его смыслом. О роли пространства в произведениях искусства писал философ-экзистенциалист М. Хайдеггер, полагая, что вещи, организующие пространство, приоткрывают непотаенность бытия: «Если допустить, что искусство есть произведение истины в действительность и что истина означает непотаенность бытия, то не должна ли в произведении пластического искусства стать основополагающей также и истина пространства, то, что являет его сокровеннейшую суть?.. Нам следовало бы научиться понимать, что вещи сами суть места, а не просто принадлежат определенному месту. В таком случае мы были бы вынуждены допустить на длительное время странное положение вещей: место не располагается в заранее данном пространстве типа физически-технического пространства. Это последнее впервые только и развертывается под влиянием мест определенной области» [23].
И Стрёмхольм, и Слюсарев в равной степени интересуются как формально-геометрическими композициями, так и фактурной вещественностью, иконичностью своих предметов, создающих пространства, однако интерес к вещам как знакам времени особенно отражается в творчестве российского фотографа, что будет показано чуть ниже.
Экзистенционально-гуманистическое измерение метафизики.
Реалистическая вещественность в фотографиях Слюсарева заставляет сравнить их с натюрмортами одного из самых влиятельных фотографов начала ХХ века, о котором молодой парижский студент, только начинавший в то время заниматься фотографией, по фамилии Картье-Брессон говорил: «Мы все очень многим обязаны ему», - венгерского фотографа Андре Кертеса. Кертес, сохраняя собственный индивидуальный взгляд на мир, выставлялся с абстракционистами, не уходя в поиск чистых форм, общался с М.Шагалом, оказал определенное влияние на С.Эйзенштейна. При этом девизом А.Кертеса до последних дней были слова: «Фотография должна быть реалистичной».
Рассмотрим следующие работы.

|

|
|
А.Кертес.
|
А.Слюсарев
|
Обе фотографии обыгрывают пространство интерьера заполненного обыденными вещами, из геометрических фигур доминируют светлые и темные четырехугольники, четкой вертикали, проходящей по центру обеих работ, противопоставлены диагональные линии. Вместе с тем принципиальное отличие этих снимков представляется очевидным. Работа Кертеса более символична, вещи в пространстве расположены и подобраны так, что складываются в повествование: открытая входная дверь из парадной, висящая на вешалке мужская шляпа, цветок в вазе на столе. Рождается романтическая история. В работе Слюсарева мы тоже можем придумать историю, кто и почему расставил предметы, но история эта возникнет не благодаря символическо-атрибутивной природе знаков на изображении, а проявится через зафиксированное время. Фотография Слюсарева исторична, но истории как нарратива в ней нет. Сами по себе предметы не взаимодействуют на уровне символов, как у Кертеса, но, являясь знаками времени, вызывают у зрителя, помнящего как использовались двойные рамы старых московских домов, почему стелили на кухонный стол газеты, определенные ассоциации.
Предметность слюсаревских работ, интерес к деталям выдает личное отношение автора к вещам. Едва ли при всей формалистичности и структурированности снимков мы может вслед за Х.Ортега-и-Гассетом обвинить метафизическую фотографию Слюсарева в дегуманизированности (на самом деле испанский философ под дегуманизацией понимал переход от массового искусства к элитарному, чистому искусству ради самого себя [26]). Только гуманизированность, в отличие от Кертеса, проявляется не в повествовании о деятельности человека, а в фиксации времени, в котором он существовал. Причем это время могло проявляться в отдельных деталях-знаках. Так, судя по комментариям Слюсарева, в ниже представленной композиции с двумя бутылками ему была важна полоска-след от молока, оставшаяся после того, как бутылка долго пролежала на боку. Эта полоска, обыгранная в композиции, выступала для него определенным пунктумом, знаком времени.

А.Слюсарев. 1976.
Этого следа от молока оказывается достаточно, чтобы ввести в изобразительное измерение гуманизированный, экзистенциональный мотив. «Я снимаю характерные для моего времени вещи, а рассудит само время» - писал А.Слюсарев [16].
Нарративность А. Кертеса вытекала из его позиции, что «писатель делает свои пометки, замечания пером… я это делаю с помощью камеры. Разницы между пером и камерой нет никакой» [15]. В подкрепление этих слов он снабжал свои фотографии подробными описаниями. Слюсарев, наоборот, избегал словесного описания своих работ. На выставках или в интернете его часто спрашивали «о чем» та или иная фотография. Автор обычно отшучивался и уходил от ответа, так как в работе его интересовала визуальная сторона, а не содержательная. Первая же выступает формой метасообщения, с трудом поддающегося вербализации, заставившего Р.Барта говорить о фотографии как о «сообщении без кода» [1]. «В фотографии объектом съемки может быть все что угодно. Содержание это всего лишь литературное обеспечение сюжета. С чем всегда и боролся» - писал А.Слюсарев. [14].
Позиция относительно формы и содержания сближала Слюсарева с уже упомянутым классиком формализма Дж. Сзарковски, который так же уделял внимание данной проблеме: «Некоторые фотографы думают, что главное — это идея. … Я слышал историю — очень красивую и, думаю, правдивую: Дюкас как-то сказал своему другу Малларме: «У меня полно идей, а стихи вот получаются не очень». На что Малларме ответил: «Конечно. Стихи ведь создаются не из идей. Их создают из слов». Хорошо сказано, да? И это на самом деле так. Только не очень хорошие фотографы считают, что фотографии делаются из идей. Они, как правило, не проходят больше половины пути…» [13].
При этом идею, как нарративно-вербализуемую, не стоит путать с художественным образом, метафорой. И Сзарковски, и Слюсарев стремились к ней в равной степени:

|

|
|
Дж. Сзарковски
|
А.Слюсарев
|
В этом плане Слюсарев с Сзарковским кажутся даже менее формалистичными и более лиричными, за счет акцентов на отдельных пятнах-деталях, чем, к примеру, работы Г.Каллахана, как-то сказавшего: «Фотографируйте людей не так, как будто они формальные объекты, фотографируйте их мысли, их чувства».

Г.Каллахан

Г.Каллахан
Правда, в условиях постмодернизма форма и сюжет примиряются. Данный принцип сформулировал Вилем Флюссер, исходя из диалектического единства текста и образа, отметил произошедшую с ними инверсию кодов: «Понятийное мышление анализирует магическое, чтобы устранить его с пути, но магическое мышление вписывает себя в понятийное, чтобы придать ему значение. В этом диалектическом процессе понятийное мышление и мышление, основанное на воображении, взаимно усиливают друг друга, а значит, изображения становятся все более понятийными, тексты — все более вымыслом. Сегодня высшую понятийность можно найти в концептуальных образах (например, в компьютерных изображениях), а высшую степень воображения — в научных текстах. Таким образом, иерархия кодов коварно опрокидывается. Тексты, бывшие первоначально метакодом образов, могут иметь в качестве метакода сами образы» [5. Сс. 10-11]. В итоге, Флюссер не сводит текст, слово, к вербализуемому смыслу, сюжету и, тем самым, его высказывание не может быть противопоставлено словам Сзарковски. Инверсия кодов стала возможной во многом благодаря тому, что и слово, и образ (литературное и визуальное мышление) – суть формы экзистенциональных поисков личности, не прекращающихся на протяжении всей истории вида Homo Sapiens.
Но вернемся к теме гуманистического измерения метафизики. Вот другая пара работ Кертеса и Слюсарева, также свидетельствующая о гуманистическом компоненте метафизической фотографии.

|

|
|
А.Кертес.
|
А.Слюсарев
|
Пара имеет формальные сходства и сущностные различия. Казалось бы, в обоих случаях мы имеем дело с символизмом. У Кертеса раскрытый томик на залитом солнцем столе настраивает зрителя на лирический лад, у Слюсарева - одинокий цветок перед распахнутым окном. Однако изобразительное решение работ различно. У Кертеса четко определяются два плана композиции, и зритель оказывается соучастником оставшегося за кадром действия. У Слюсарева тюль отгораживает зрителя от пространства, в котором располагаются предметы, играя роль фактуры некой плоскости, холста, на котором как будто написан этот натюрморт. Получается картина о картине, художник сознательно усиливает эффект плоскости фотографии, приглушает перспективу. Литературный сюжет, рассказ отступает на второй план перед игрой с пространством. Зритель не ощущает себя внутри пространства фотографии, последняя остается напоминанием о прошлом. Не случайно с подачи американского критика Сьюзен Зонтаг в философской литературе второй половины ХХ в утвердилось отношение к фотографии как «памятки смерти».
Александр Раппапорт в 1987 г так же обратил внимание на феномен времени в работах А.Слюсарева: «Ключ к смысловой сути этих снимков лежит, как мне кажется, в особенностях фотографической передачи времени, которое у Слюсарева дано в очень сложной и редкой форме единства монументального и моментального. Предметные ситуации, ракурсы здесь часто столь же моментальны, сколь и само время экспозиции - это всего лишь миг в потоке времени. Но композиции, построенные на уравновешенном сочетании горизонталей и вертикалей - монументальны как нечто вечное и неизменное. Контраст этих временных форм придает самым заурядным фрагментам нашего предметного мира значительность, к которой мы не привыкли… Эта жизнь предметного мира выступает как самостоятельная отчасти потому, что не включена, в отличие от обычных репортажных снимков, в какой-нибудь процесс деятельности. Выпадая из деятельности, но оставаясь во времени, она обретает собственную судьбу…» [12]. В разделе о денотативности метафизики мы увидим, что данные слова Раппапорта перекликаются с размышлениями Хайдеггера о «непосредственной бытийственности» вещи, вещи без выраженной «дельности».
Время ощущается в каждой из нижеприведенных фотографий. Причем Слюсарев не пытается подчеркнуть характерную общую форму вещи, ее «наличные свойства», его интересуют происходящие с ней мимолетные изменения, создающие эффект присутствия, о котором писал Хайдеггер: «"Сущность" присутствия лежит в его экзистенции. Выделимые в этом сущем черты поэтому суть не наличные "свойства" некоего так-то и так-то "выглядящего" наличного сущего, но всякий раз возможные для него способы быть и только это. Всякая такость этого сущего есть первично бытие» [23]. Висящие на стуле брюки, подкладка которых вдруг заиграла на фоне двери, открывают свою скрытую «такость», не сводимую к изначальной функциональности; или пробивающееся через рубашку солнце превращает ее из элемента одежды в занавесь между светом и тенью.

|

|
|
А.Слюсарев. 1977
|
А.Слюсарев. 1979
|

|

|
|
А.Слюсарев. 1977
|
А.Слюсарев. 1979
|
О случайной «такости» вещей в близком значении к Хайдеггеру писал и Раппапорт в упомянутой статье о Слюсареве: «Судьба предметного мира, неотделимая от судьбы создающего ее и живущего в ней человека, может отразиться в случайном: в воде, бликах и тенях, в кофейнике, спичечном коробке, каплях на оконном стекле, во всем, на что упал внимательный взгляд художника с магической камерой в руках»[12].
Метафизика в натюрмортах Слюсарева заключена в контексте фотографии как метавысказывания, считывать ее нужно между строк, не воспринимая одну только иконичность предметов, а складывая воедино разные знаки-акценты. Возможно, оставленной нам авторской подсказкой, ключом к овладению методом метафизики является следующая пара работ, в которой запечатлено два способа взгляда на предмет:

|

|
|
А.Слюсарев. Малаховка. 1979.
|
А.Слюсарев. Малаховка. 1979.
|
Левая фотография более аналитична и предметна, вторая – рефлексивна: взгляд, перешедший с оконной рамы на кустарник в саду, как движение сознания зрителя от восприятия конкретной формы к ассоциативным образам, воспоминаниям. В метафизической фотографии нет буквальности, смотреть на нее нужно «расфокусированным» взглядом, уводя предметность на периферию зрения. Вещи в метафизике как дорожная разметка, задающая направление, но остающаяся вне фокуса. С позиции логики и семиотики Ч.Пирса форма, предметность в метафизической фотографии Слюсарева оказывается знаком-индексом, который сообщает о наличии метауровня в изображении, но, в отличие от кертесовского знака-символа, не ограничивает его прочтение конкретной историей, нарративом, оставляя пространство для личных переживаний-ассоциаций.
Еще одной специфической особенностью слюсаревской метафизики, вытекающей из медитативной созерцательности, является потоковое восприятие изображений. Фотографии разных вещей в разном интерьере своими общими композиционными построениями как бы повторяют друг друга, создавая метарассказ, фотодискурс о вещах и времени. Э.Гуссерль в свое время, бросив лозунг «Назад к вещам!», призывая сбросить предвзятость научных схем и теорий, ввел в качестве метода феноменологическую редукцию, сводящуюся к замене натуралистического познания рефлексией субъекта о предметах [24]. Сопереживание вещам в фотографиях Слюсарева и выступает подобной рефлексией, является своеобразной феноменологической фоторедукцией. Примечательно, что идеи Гуссерля были развиты Хайдеггером, который результаты феноменологической редукции рассмотрел в контексте проблемы «усредненной повседневности»: «Усредненную повседневность присутствия нельзя брать как простой "аспект". В ней тоже, и даже в модусе несобственности, лежит a priori структура экзистенциальности»[23]. Медитативное созерцание серии метафизических фотографий Слюсарева позволяет нам сформировать образ той самой «усредненной повседневности», в которой проявляется экзистенциональный аспект.
Несмотря на обращение к цвету, эксперименты с абстрактными формами, увлечение стрит-фотографией в последующее время, даже за год до смерти Слюсарев оставался верен своей гуманизированной предметности, когда говорил: «Я рассказываю о месте и существовании людей в нём» [11].
Таким образом, время, отраженное в предметах на фотографиях Слюсарева, гуманизированно, индексальными знаками напоминает о присутствии человека, его судьбе. В этом плане метафизическая фотография является фотографией экзистенциональной, связанной с существованием и человека, и мира окружающих его вещей.
Свет как метафизический объект.
В одном из интервью, когда Слюсарева спросили о роли тени и бликов в его работах, он ответил: «Тень и блик обладают тем же самым изначальным визуальным значением, которым обладает и сам предмет» [10]. И это действительно так, ведь создавая пятно, форму на плоскости фотографии, они могут нести не меньшее, а даже большее визуальное значение, чем собственно узнаваемые иконические знаки. Поэтому Слюсарев положительно отвечал и на другой вопрос, может ли блик на линзе объектива рассматриваться как изобразительный элемент фотографии.

|

|
|
А.Слюсарев. Фили. 1982.
|
А.Слюсарев. Перекресток. Весна. 1981.
|
Очень образно, даже метафизично, написал о свете в фотографии один из классиков постмодернизма Жан Бодрийар: «Фотография: письмо света. Свет фотографии остается истиной образа. Фотографический свет не «реалистичен» и не «естественен», но и не искусственен. Скорее, этот свет есть само воображение образа, его собственное мышление. Он исходит не из одного-единственного источника, а из двух, сдвоенных: объекта и взгляда. “Образ возникает на пересечении света, идущего от объекта, и света, идущего от глаза” (Платон)» [3]. Для иллюстрации своего тезиса Бодрийар использовал работы американского живописца Эдварда Хоппера.

Э.Хоппер

Э.Хоппер
Однако не меньшее значение свету и созданным им формам уделяется в метафизике Слюсарева.

А.Слюсарев

А.Слюсарев

А.Слюсарев
На первой фотографии Слюсарева нарисованный светом белый квадрат на стене кажется не менее вещественным, чем белые листы за окнами. Будучи сопоставленным с ними, он играет такую же активную роль в композиции. Во второй работе свет и тени вступают в причудливую игру на земле, создавая сложный рисунок из линий и пятен; ассиметричная композиция усиливает эффект движения. В последней фотографии кажется, что луч света, идущий из ПВУ, как ветерок отдергивает занавески и проникает в комнату.
Интерес к теоретическому наследию Бодрийара объясняется так же и тем, что он сам увлекался фотографией, а потому мог визуализировать свои мысли. Вот весьма удачная иллюстрация слов о вещественности и материальности света, на которой свет, струящийся по неубранной постели, кажется живой змейкой:

Ж.Бодрийар
Но, опять-таки, цветное наследие Слюсарева предлагает нам не менее яркие образы материальности, вещественности света, правда, относятся они к более позднему периоду творчества, чем мы оговорили в начале статьи:

А.Слюсарев. 2007.

А.Слюсарев. 2006.
Таким образом, еще одним выявленным признаком метафизической фотографии стал свет, который не просто определяет форму предметов, их фактуру, позволяет светотональным рисунком начертить ту или иную абстрактную композицию, а превращается в важный, самостоятельный объект фотосъемки, становится вещью, не менее значимой, чем повседневные предметы формирующие быт человека. Свет, как вневременное проявление бытия, добавляет гуманизированной предметности метафизики онтологический масштаб.
Денотативная бесшумность метафизики.
ХХ век, апогей развития индустриального общества, оказался очень богат на исторические события, менявшие жизнь людей во многих уголках планеты. Естественно, что фотография не стояла в стороне, а сопровождала человека на полях битв мировых войн, на стройках коммунизма, в трущобах больших городов и т.д. Однако в итоге у зрителя возникло чувство перенасыщения, усталости от постоянной эксплуатации его чувств с помощью тех или иных образов. Да и сама фотография наполнилась приемами-штампами, от которых, ради развития фотоискусства, нужно было избавляться.
Эту ситуацию хорошо описал мыслитель и зритель Ролан Барт в своих впечатлениях после посещения выставки «Фото-шок», на которой были представлены фотографии с мест боевых действий: «Большинство представленных на выставке фотографий имеют целью ошеломить нас, однако они не достигают желаемого эффекта по той причине, что сам фотограф слишком уж великодушно предлагает свои услуги, отстраняя нас от участия в выборе сюжета; ужас, который он хочет внушить нам, почти всегда оказывается надстроенным: с помощью сравнений или противопоставлений он добавляет к фактам интенциональный язык ужаса… Тем не менее ни одна из этих слишком уж ловко сделанных фотографий не трогает нас. Все дело в том, что когда мы рассматриваем их, то в каждом случае лишаемся возможности вынести свое собственное суждение: кто-то другой, а не мы, содрогнулся от ужаса, кто-то другой задумался вместо нас и вынес свое суждение… отягощенные указаниями самого фотографа, они не имеют в наших глазах никакой истории, мы уже не в состоянии выработать наше собственное отношение к этой синтетической пище, полностью переваренной самим ее изготовителем» [1. С.62.]
Погоня за сюжетами, большими темами, по сути, убила фотографию, сводя изображение к изображенному, лишая фотографию как изображения самостоятельной ценности, смысла, превращая ее лишь в памятку смерти события прошлого. Даже фотографы-любители, которым не суждено было оказаться в горячих точках, яростно искали «горячие» сюжеты вокруг себя. По их адресу Ж.Бодрийар иронизировал: «Сегодня невозможно найти первобытное племя, которое бы не изучал какой-нибудь антрополог. Точно также больше нельзя найти опустившегося бомжа, которого бы не снимал какой-нибудь фотограф, мечтающий «обессмертить» эту сцену, запечатлев ее на пленке». В действительности, вместо обессмерчивания происходит умерщвление изображения как самостоятельной ценности.
По сути, как у Барта, так и у Бодрийара речь идет о чрезмерной коннотированности изображения, слишком навязываемой зрителю авторской интенции. Оппозицией коннотации является денотация (буквальное значение), однако обнаружить ее чистую форму в изображении проблематично: «Буквального изображения в чистом виде попросту не существует; даже если попытаться создать такое, целиком и полностью «наивное» изображение, оно немедленно превратится в знак собственной наивности и как бы удвоится за счет возникновения еще одного — символического — сообщения. Таким образом, специфика «буквального» сообщения имеет не субстанциальную, а реляционную природу; это, так сказать, привативное сообщение, иными словами, остаток, который сохранится в изображении после того, как мы (мысленно) сотрем в нем все коннотативные знаки (реально устранить эти знаки невозможно, так как они, как правило, пропитывают все изображение в целом, что, например, имеет место в «натюрморте») [1. С. 308].
Отрицая денотативный уровень в рисунке, живописи, Барт, тем не менее, допускал его в фотографии: «Из всех видов изображений только фотография способна передавать информацию (буквальную), не прибегая при этом ни к помощи дискретных знаков, ни к помощи каких бы то ни было правил трансформации. Вот почему фотографию как сообщение без кода следует отличать от рисунка, который, даже будучи денотативным, все-таки является сообщением, построенным на базе определенного кода» [1. С. 309].
Вероятно, противопоставляя фотографию и рисунок, Барт к средствам коннотации не относил композиционное построение изображения, ведь компоновка холста или компоновка кадра в видоискателе имеют много общего. Если так, то следующая фотография Слюсарева являет собой один из ярчайших примеров денотативности.

А.Слюсарев. 1976.
Однако, тогда и в живописи мы можем обнаружить немало денотативных изображений, в которых изначальная авторская интенциональность, код оказались заслоненными образом самой вещи. В этой связи нельзя не вспомнить анализ картины Винсента Ван Гога «Башмаки», проведенный М.Хайдеггером. Философ-экзистенциалист рассуждает, что будь башмаки обуты на крестьянку, прояви они свою функциональность (дельность) в действии их подлинная сущность оказалась бы закрыта для зрителя. Именно простота и непосредственность вещи, передающаяся денотативным изображением, позволяют раскрыть ее бытийственность: «Чем с большей простотой и существенностью расходится в своей сущности изделие — башмаки, …с тем большей непосредственностью и привлекательностью становится все сущее, множа свою бытийственность. А тогда просветляется сокрывающееся бытие. Такая светлота встраивает свое сияние вовнутрь творения. Сияние, встроенное вовнутрь творения, есть прекрасное. Красота есть способ, каким бытийствует истина — несокрытость» [28. С.31].

В.Ван Гог. Башмаки.
Тем не менее, проблема отделения денотативного изображения (проявляющего несокрытость сущего) от коннотативного (проявляющего авторскую интенциональность) слишком сложна и выходит за рамки данной работы. В конце концов даже выбор точки съемки или ракурса фотографом может рассматриваться в качестве коннотации. Тем не менее, именно на примере ракурсной съемки можно предложить решение данной проблемы. В 1931 г А.Родченко, один из первых экспериментаторов с крайними ракурсными точками, на выставке группы «Октябрь» в Москве в Доме печати выставил дискуссионные снимки — снятые с нижней точки «Пионерку» и «Пионера-трубача».

|

|
|
А.Родченко. Пионерка. 1930.
|
А.Родченко. Пионер-трубач. 1930.
|
На фотографии обрушилась разгромная критика, сдобренная идеологической демагогией она, тем не менее, исходила из формалистичности, нереалистичности родченковских композиций. Действительно, крайние ракурсные точки добавляют фотографии коннотирующую экспрессию, кажутся авангардистскими. Вероятно, таким образом, этот прием неприемлем для денотативного изображения, которое следует получать из более привычных для повседневного восприятия ракурсов, исключая крайние позиции.
Однако было бы неверным денотативную фотографию сводить к технической, композиционной стороне. Как уже упоминалось, это очень относительный, более реляционный, чем субстанциональный путь. В конце концов не будем забывать, что Барт «вышел» на проблему денотативного сообщения, начав с критики выставки «Фото-шок». Таким образом коннотация для него заключена не столько в изобразительных приемах как таковых, сколько навязываемых с их помощью смыслов и значений изображенного.
Развитие этих идей мы обнаруживаем у Бодрийара в его теории «бесшумной фотографии»: «Идея состоит в том, чтобы сопротивляться шуму, речи, молве, мобилизуя фотографическое молчание; сопротивляться движениям, потокам и скорости, используя неподвижность фотографии; сопротивляться взрыву коммуникации и информации, выдвигая вперед загадочность фотографии; и сопротивляться моральному императиву смысла, демонстрируя отсутствие в фотографии какой-либо сигнификации… В противоположность смыслу и его эстетике, ниспровергающая роль образа заключается в раскрытии буквальности в объекте (фотографический образ, являющийся выражением буквальности, становится магическим вершителем исчезновения реальности). Фотографический образ является в некотором отношении материальной формой передачи отсутствия реальности, которая “принимается с такой непосредственностью и легкостью потому, что мы уже ощущаем: нет ничего реального” (Борхес)» [3]. Таким образом, Бодрийар под бесшумностью понимает фотографию, лишенную навязываемого зрителю смысла, сюжета в его литературном, нарративном значении. Как помним, это именно та фотография, к которой всегда стремился и Слюсарев. Даже изредка появлявшиеся в его метафизических фотографиях люди не несли с собой смыслового шума, выступая скорее оформлением пространства существования вещи, чем использовали ее, создавая с ее помощью те или иные сюжеты.

А.Слюсарев. 1981.
В свою очередь развитие бодрийаровской «бесшумной фотографии» происходит в одноименной статье А.Чолоденко. Автор рассматривает ее через дуалистическую оппозицию жизни – смерти, противопоставляя бесшумную фотографию фотографии анимированной, одухотворенной, и отмечая, в то же время, что в любой фотографии есть как призрак смерти, след прошлого, так и начало новой жизни, анимации, приходя к выводу, что бесшумная фотография это жизнесмерть: «Бесшумность как жизнесмерть — одновременно и жизнь, и смерть, а не просто жизнь или смерть. Поддержку своей позиции я нахожу у Бодрийяра: “Подлинная недвижимость — это не недвижимость статичного тела, но недвижимость веса на конце маятника, который только что перестал раскачиваться и еще незаметно вибрирует”» [7]. Эта тонкая грань застывшего маятника, миг между жизнью и смертью, прошлым и будущим – как нельзя более точный образ метафизической фотографии, фотографии медитативной. Она не абстрактна и не дегуманизированна, ибо полная дегуманизация и господство чистых форм это только смерть, она метафорична и чувственна, однако ее образ лежит между мертвой абстракцией и анимированным сюжетом-символом, соответственно, понять ее можно только в единстве формы и содержания, не сводя восприятие ни к чистому формотворчеству, ни к литературному нарративу. Освоение денотативного изображения, к которому автор не приложил ключа для дешифровки, может проходить на уровне медитативного созерцания. Слюсарев также говорил о медитативности фотографии.

А.Слюсарев. Гостиница в г.Валмиера. Лето. 1974
Таким образом, медитативность слюсаревской метафизики вытекает из ее денотативной бесшумности, сюжет в такой фотографии никогда не может быть главным объектом съемки. Поэтому вопросы «о чем фотография», которые так любят задавать наивные зрители, лишены смысла, когда они касаются метафизики.
Итак, можно подвести промежуточные итоги, вспомнив выделенные из «классического» периода творчества А.Слюсарева признаки метафизической фотографии.
1. Метафизическая фотография экспериментирует с формально-абстракционистскими композициями, которые выступают скелетом изображения в целом, но не являются самостоятельной ценностью снимка;
2. Метафизическая фотография, которая не сводится к чистым формам, использует иконичные, узнаваемые образы, за счет реалистичной передачи фактуры предметов;
3. Метафизическая фотография не является предметной съемкой, ее нельзя сводить к натюрморту, так как собственно иконичному предмету предпочитает его индексальный знак, за счет которого осуществляется перенос значений и смещение акцента с предмета на состояние пространства;
4. Метафизическая фотография гуманизированна за счет печати экзистенциональности, передачи в атмосфере снимка, в его детали момента бытийственности;
5. Метафизическая фотография в качестве важного, вещественного объекта съемки работает со светом во всех его проявлениях;
6. Метафизическая фотография, будучи бесшумной, не знает литературной, нарративной сюжетности и выраженной авторской интенциональности.
Вместо заключения или Homo Faber vs. Homo Ludens.
И.Чмырева, рисуя портрет Слюсарева-фотографа, поневоле создала образ кабинетного ученого-аналитика, поправившись впоследствии, что в жизни он всегда был очень живым и веселым человеком [21]. Отчасти вина за такие амбивалентные характеристики лежала на самом Слюсареве, использовавшего термин «аналитическая фотография» как синоним метафизической, но при этом повторявшего, что «при съемке не думаешь, все интуитивно»[22]. Чтобы разобраться в том, как «бездумная» интуиция может сочетаться с аналитикой, вспомним, в каком контексте и когда возник термин «аналитическая фотография». В.Стигнеев его появление относит к концу 1970-х, когда в Йошкар-Оле появилась творческая группа молодых фотографов «Факт». Основные принципы группы сформулировал С.Чиликов, которые сводились к экспериментам с предметами в срежиссированных мизансценах на природе [9].

|

|
|
С.Чиликов
|
В.Тумбаев
|
Однако чего было больше в действительности в подобных творческих актах: ученой аналитики или игры? Привнесение элемента театра в процесс фотографирования вносило в него игровой элемент. Принципиальное отличие фотографа от ученого заключается в том, что он не ограничен теоретическими законами, методологическими правилами. В искусстве нет правил, что позволяет творческой личности проявляться в полной мере, поэтому его отношения с предметами в пространстве не ограничены теорией, эксперименты не направлены на поиск закономерностей, а направлены на поиск уникальных случайностей, складывающихся в художественный образ, в котором проявляется «такость», «несокрытость сущего». При этом выстраиваются особенные отношения между субъектом и объектом, которые не подчинены одной только воле, интенции фотографа, последний оказывается зависим от ряда внешних факторов, полагается на интуицию и удачу. В непосредственной связи с этой игрой находится отмеченный метод феноменологической фоторедукции как формы рефлексии художника по отношению к вещам. Все это заставляет признавать объект фотосъемки в качестве некоей волевой субстанции. Данный подход особенно характерен для ситуации постмодерна. Бодрийар по этому поводу писал: «Если какая-то вещь хочет быть сфотографированной, это означает, что она не желает раскрывать свой смысл, не желает отражаться. Это означает, что она хочет быть схваченной и плененной непосредственно тут же, на месте, будучи освещенной во всех деталях, во всех своих изломах. Мы чувствуем, что вещь хочет быть сфотографированной, хочет стать изображением, но вовсе не для того, чтобы продлиться, а, наоборот, чтобы с большей вероятностью обрести исчезновение. И субъект способен стать хорошим фотографическим медиумом, лишь вступив в эту игру, лишь изгнав свой собственный взгляд и свое собственное эстетическое суждение, лишь воспользовавшись своим отсутствием...» [4].
При таком подходе фотография становится не односторонним актом познания, а диалогом, возникающим между познаваемым и познающим (субъектом и объектом). Ученица Р.Барта Юлия Кристева писала о гносеологическом повороте в постструктуралистскую эпоху от декартовской формулы «мыслю, следовательно, существую» к формуле «я говорю, ты меня слышишь, следовательно, мы существуем» [25. C.439]. Любопытно, что ее концепция возникла на базе теории М.Бахтина об амбивалентности карнавальной культуры Средневековья, пронизанной различными формами игры. Более того, об игровом характере искусства модерна и ироничности новой культуры писал еще в начале ХХ в Х. Ортега-и-Гассет [26]. Тем не менее, в полной мере эти признаки начали проявляться в период постмодерна. Игра, а не исследование, диалог, а не аналитика, вот что становится определяющим в метафизической фотографии постмодернистской эпохи.
Йохан Хейзинга размышлял на эту тему: «От существа поэзии элемент игры настолько неотделим и любая форма поэтического кажется настолько связанной со структурой игры, что их внутреннее взаимопроникновение следовало бы назвать почти неразрывным, а термины игра и поэзия при такой взаимосвязи оказались бы под угрозой утратить самостоятельность приписываемого им значения»[6. С.154]. Согласно Хайдеггеру «все искусство по своей сущности — это поэзия» [28. C.44.]. Следовательно, фотография как искусство, являясь формой поэзии, так же может рассматриваться в контексте игры.

Фотография Александра Гривина. А.А.Слюсарев. Апрель 2010 г.
Правда Хейзинга отказывал изобразительному искусству в игровой природе, но аргументация его спорна: «Художник, как бы он ни был охвачен творческой страстью, трудится как ремесленник, серьезно и напряженно, то и дело проверяя и поправляя себя. Его вдохновение, вольное и стремительное в замысле, в работе должно подчиняться искусным навыкам его созидающих рук. Если, таким образом, при изготовлении произведения искусства игровой элемент очевидно отсутствует, то он ни в чем себя не выражает и тогда, когда взирают на такое произведение или им пользуются. Здесь нет никакого видимого со стороны действия. Если в изобразительном искусстве уже сам его характер трудного делания, старания, усердного ремесла препятствует возникновению игрового фактора, то это обстоятельство только усиливается тем, что вид произведения искусства обычно в большой мере определяется его практическим назначением и что это последнее никак не бывает вызвано художественным мотивом» [6. Cс.161-162]. Здесь фактически Хейзинга рассуждает о хорошем ремесленнике, homo faber’е, который трудится, а не творит, играя с материалом.
Хейзинга справедлив в том смысле, что в отличие от исполнения музыкального произведения, в котором возможны импровизации, сам по себе факт презентации произведения изобразительного искусства на выставке не несет в себе игрового характера. Правда, в рамках современного искусства это правило больше не работает, достаточно вспомнить перфоманс 1974 г югославской художницы Марины Абрамович «Ритм 0», в котором перед зрителем были разложены различные предметы от ножниц до пистолета и было позволено совершать с их помощью любые действия по отношению к автору.

М.Абрамович. Ритм 0. 1974 г.
Или возьмем в качестве примера современную харьковскую группу молодых художников «Шило», в рамках которой недавно произошла выставка-перфоманс работ Владислава Краснощека «Негативы хранятся», где были разыграны отношения фотохудожника с фотографиями прошлого и, одновременно, с современным зрителем.

Фотография Романа Пятковка.
В.Краснощек, лежащий в деревянном ящике и листающий альбом с раскрашенными фотографиями. 2011.
Не учел Хейзинга также и игровой момент в самом процессе фотографирования. То, с какой легкостью Слюсарев создает из окружающих его вещей новые метафизические формы, новое пространственное измерение, не позволяет назвать его ремесленником и на этой основе отказать в игровом характере метафизической фотографии. Изучение слюсаревских квадратов позволяет предположить состояние той игры с волевыми субстанциями, о которых писал Бодрийар.
Игровой элемент фотографирования присутствует и у Дж.Сзарковски. Только Сзарковски в волевую субстанцию превращает не объект, а объектив с камерой: «Фотокамера имеет собственные мысли о фотографии», - писал он, имея ввиду, что фотограф не всегда в состоянии четко контролировать предполагаемый результат. Да и интрига, заключенная в ожидании проявленной пленки или просмотра файла на большом мониторе с целью сравнения своих представлений о предмете с запечатлевшимся образом, так же несет в себе игровой момент. В контексте игры рассматривает отношения фотограф-фотокамера и В.Флюссер: «Когда он (фотограф. – В.А.) смотрит сквозь аппарат на мир, то не потому, что его интересует мир, но потому, что он ищет новые возможности создания информации... Его интерес сконцентрирован на аппарате, мир для него только предлог для реализации возможностей аппарата... Такая деятельность сравнима с игрой в шахматы. И шахматист ищет новые возможности и новые ходы в шахматной программе. Так же, как он играет фигурами, фотограф играет аппаратом. Фотоаппарат — не орудие труда, а игрушка, а фотограф — это не рабочий, а игрок: не «Homo faber», а «Homo ludens». [5. С.29.]
Ставя точку в нашем исследовании природы слюсаревской метафизики, а также учитывая игровое взаимодействие «фотограф – камера – объект», исходя из которого сущность метафизики следует выводить в том числе из характера субъекта, в качестве последнего признака метафизической фотографии стоит назвать:
7. Метафизическая фотография появляется тогда, когда сам фотограф из Homo Faber эволюционирует в Homo Ludens (ремесленник превращается в творца).
БИБЛИОГРАФИЯ:
1. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика М., 1989.
2. Барт Р. Сamera lucida. М., 1997.
3. Бодрийар Ж. Фотография, или письмо света.
4. Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М., 2000.
5. Флюссер В. За философию фотографии. СПб., 2008.
6. Хейзинга Й. Homo Ludens. Статьи по истории культуры. М., 1997.
7. Чолоденко А. Бесшумная фотография? // Хора. 2009. № 2 (8).
8. Стигнеев В., Михалкович В. Поэтика фотографии. М., 1989.
9. Стигнеев В. Про аналитическую и иную фотографию.
10. Намек на реальность. Александр Слюсарев – фотограф теней, бликов и отражений. Интервью М.Сидлину. 2004.
11. http://www.photoline.ru/photo/1258042276
12. Раппапорт А. Время и предмет. Фотографии А.Слюсарева. // Советское фото. 1987. №7.
13. http://www.photoisland.net/pi_hist_text.php?lng=1&hist_id=197
14. http://www.photographer.ru/forum/view_messages.htm?topic=16893&forum=22
15. http://www.classic-photo.ru/fotograf-andre-kertes/
16. http://www.photoline.ru/photo/1261930072
17. http://www.photoline.ru/photo/1229782001
18. Пирс Ч. Начала прагматизма. СПб, 2000
19. http://otmel.livejournal.com/215802.html#cutid1
20. http://www.chaskor.ru/article/aleksandr_slyusarev_ya_govoryu_o_prostyh_i_ponyatnyh_veshchah_12781
21. Чмырева И. Александр Слюсарев: эстетика внутренней свободы.
22. http://www.photoline.ru/photo/1259680097
23. Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997.
24. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М., 1999.
25. Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог, роман. // Диалог. Карнавал. Хронотоп, 1993, № 4.
26. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. М., 1997.
27. Хайдеггер М. Что такое метафизика? М., 2007.
28. Хайдеггер М. Исток художественного творения. М., 2007.
2012 © Владислав Аксенов
Что ещё можно сделать:
Обсудить статью на Форуме >>>
Написать письмо автору >>>
[ Адрес этой статьи в Интернет: http://photo-element.ru/analysis/slyusarev/slyusarev.html ]
|